2 февраля 2022 г., 15:39
9K
Дело против сюжета о психологической травме
О ней обожают писать. Без неё не снимут ни один фильм. Но оживляет ли такое клише персонажей, или же они просто сводятся к набору симптомов?
повстречала в поезде плачущую женщину, когда ехала из Ричмонда в Ватерлоо. Хрупкая старушка, беззвучно заливающаяся слезами, она никак не могла знать, что вот-вот вступит на поле брани за судьбу литературы. Вулф призвала её в 1924 г. в эссе «Мистер Бенетт и миссис Браун» (Mr. Bennett and Mrs. Brown), написав, что «все романы начинаются с сидящей напротив старушки» — персонажа, пробуждающего воображение. Вулф считала, что, помни писатели об этом, и им удастся придать английскому роману его окончательный облик. Сюжет и его оригинальность не стоят и гроша, если автор не в состоянии оживить несчастную даму. И вот, практически отчаявшись, Вулф начала всякое выдумывать: коттедж, который пожилая дама содержала и украсила морскими ежами, то, как она брала еду с блюдца — тем самым уходя всё глубже во тьму странных мелочей, чтобы выудить хоть толику сущности этой женщины.
И эти мелочи: морские ежи, блюдце, кусочек личности. По словам Вулф, чтоб пробудить их, она, как писатель, обратилась к своему характеру, своему времени, своей стране. В английских романах эту женщину описали бы как эксцентричную, с бородавками, в одежде, украшенной лентами. В русских — превратили бы её в неприкаянную душу, блуждающую по улицам и «задающую судьбе некий животрепещущий вопрос».
А как современный автор опишет миссис Браун Вирджинии Вулф? Кто станет для нас прообразом? Думаю, именно в общих чертах мы бы разглядели её лик. Очарованная собой, сдержанная, оставляющая послевкусие некой надломленности. Застопорившаяся, непонятная для остальных, склонная к внезапному молчанию и несдержанным ответам. Что-то её беспокоит, удерживает от легкости и близости, пока в один день плотина терпения не прорвется, и её прошлое волной признаний или флешбэков не вырвется наружу.
Не важно, как вы обыграете это: поставите спектакль или снимите кино, но одна тема — тема психологической травмы — встает во главе всего. В отличие от темы брака, в сюжетах о психологической травме наше любопытство не стремится в будущее (будут они или не будут?), но направлено в прошлое (что же с ней случилось?). «Но взимать я плату буду // Чтобы поглазеть на шрамы», — писала в своем стихотворении «Леди Лазарь». «Еще большей будет плата» (пер. Яна Пробштейна — прим. пер.). Сегодня же можно посмотреть на такое почти даром. Разместите эту картину среди неудачного романа двух людей с их абсолютно разным жизненным опытом. Добавьте уют эпопеи о диаспорах, великом переселении народов или романа об уходе из жизни. Не забудьте побольше призраков. Расскажите историю с присущей современности эмоциональностью, забывая о существовании пунктуации. Сведите в ней девятерых полнейших незнакомцев. В книгах протагонисту часто можно не давать имени; в кино же персонажа назовите Тедом Лассо, Вандой Максимофф, Клэр Андервуд или «Дрянью» (конкретно здесь — персонажи сериалов «Тед Лассо», «Ванда/Вижн», «Карточный домик» и «Дрянь» — прим. пер.). Классика подстраивается под шаблон. В двух новых адаптациях «Поворота винта» экономка в прошлом пережила изнасилование. В сериале «Энн», перезапуске «Ани из Зеленых Мезонинов» от Netflix, главная героиня наделена предысторией жестокого обращения, которая раскрывается отрывочными флешбэками. В осовремененной версии пьес издательства «Хогарт-Пресс» , , и другие одарили Макбета и остальных героев необходимым мучительным прошлым.
Неудивительно, что во времена, которыми правит само понятие травмы, сюжеты о ней становятся так популярны. ПТСР (пост-травматическое стрессовое расстройство — прим. пер.) — наиболее классическая форма травмы — находится на четвертом месте среди самых часто диагностируемых психических расстройств США, а также одним из самых пагубных. Если в 1980 г. в DSM-III (Диагностическое и статистическое руководство по психическим расстройствам третьего пересмотра — прим. пер.) под психологической травмой понимали событие, «выходящее за рамки повседневного жизненного опыта», то сейчас, согласно психотерапевту Резмаа Манэкему и его книге «Руки моей бабушки: психологические травмы расовых меньшинств и пути исцеления наших душ и тел» (My Grandmother’s Hands: Racialized Trauma and the Pathway to Mending Our Hearts and Bodies, 2017), в это понятие включается «всё, что тело воспринимает как чрезмерное, чрезмерно быстрое или наступившее чрезмерно рано». Благодаря дополненному определению, больше людей смогут получить лечение, однако само понятие становится таким обширным, что под диагноз ПТСР можно записать около 636 120 возможных комбинаций симптомов, а значит, теоретически, 636 120 человек будут иметь уникальный набор симптомов при одном и том же заболевании. Это не только медицинская проблема, но и нравственная: как отмечает Рут Лейс в книге «Филогенез психологической травмы» (Trauma: A Genealogy, 2000), один и тот же диагноз может быть как у солдата, совершившего военные преступления, так и у его жертв. И сегодня, когда границы понятия так размыты, диагноз можно выставить и журналисту, освещавшему зверство, и потомкам жертв, и даже историку, изучающему описанное событие спустя годы; все они — потенциальные жертвы «заместительной травмы».
И что же тогда считать психологической травмой? Выбирайте сторону сами. Современная жизнь по умолчанию травматична. Нет, не так: это лишь мы стали более внимательными, научились улавливать человеческие страдания во всех их формах. Если, конечно, не наоборот — и мы не воспринимаем любое событие как травмирующее. Стала ли психологическая травма ключом к социальному статусу человека в мире виктимности, или же нашим значком за смелость? Даже сам вопрос для кого-то будет оскорбительным: возможно, абсурдно спорить о символической ценности страдания, когда практически нельзя ни вылечиться, ни прийти в норму. И все эти утомительные дебаты заканчиваются, стоит наступить времени развлечений. Мы устраиваемся поудобнее и ждём новых историй о супергероях Marvel, мужественно справляющихся с безотцовщиной, саг о загадочных книжных героинях, так неочевидно травмированных в прошлом.
Но не войне и не сексуальному насилию благодаря, а именно английской железной дороге впервые родилась мысль о психологической травме — ещё за шестьдесят лет до того, как Вирджиния Вулф села в трясущийся поезд из Ричмонда до Ватерлоо. В 1860-х гг. врач по имени Джон Эрик Эриксен отметил симптомы, проявившиеся у жертв дорожнотранспортных происшествий: несмотря на очевидные физические повреждения, позже они сообщали о спутанности сознания, голосах и параличе. Он назвал эту болезнь «железнодорожной травмой». Но ни , ни не согласились, что психика может быть травмированна непосредственно. Заново железнодорожная травма родилась уже как боевая психическая травма в период Первой мировой войны, и её олицетворением стал склонный к суициду герой «Миссис Дэллоуэй» В. Вулф, ветеран Септимус Смит. Что же так и осталось неизменным, так это презрение, с котором относились к данному диагнозу; порой психически травмированных солдат называли «моральными инвалидами» или предавали трибуналу. В последующие десятилетия в изучении психологической травмы наступил «период забвения», как называет это психиатр Джудит Герман (Judith Herman). Только лишь в период войны во Вьетнаме последствия боевых травм для психики были «открыты заново». Ввели понятие ПТСР, и благодаря деятельности партийных женских организаций диагноз распространился также на жертв сексуального насилия и домогательств. В 90-х годах, не без участия литературного критика , произошёл переломный момент в изучении травмы как культурного феномена: стали доступны описания невыносимого для психики жизненного опыта, из-за которого выпадают фрагменты памяти, возникают галлюцинации, а поведение становится однообразным. с разрешения научного сообщества популяризировал данные наблюдения в книге «Тело помнит всё» (2014), утверждая, что травматические воспоминания тесно связаны с физиологией мозга и запечатлены в наиболее ранних, первичных его участках.
писал: «Если греки изобрели трагедию, римляне — эпистолярный жанр, а деятели эпохи Возрождения — сонеты, то наше поколение изобрело новую литературу, и это уж точно». Скрываясь под самыми разными личинами (в виде мемуаров, исповедальной поэзии, рассказов выживших, теледебатов), психологическая травма из разряда нравственного недостатка вознеслась до морального авторитета, заняв своего рода экспертную позицию. В последние двадцать лет вновь поднялась волна писательства на данную тему, бестселлеров и мемуаров на любой вкус: едких (романы о Патрике Мелроузе Эдварда Сент-Обина), сентиментальных ( «Жутко громко и запредельно близко» ), самозабвенных (сборник эссе «Экзамены по эмпатии» ( The Empathy Exams )), безмерно откровенных (мемуары «Дневник кровосмешения» (Incest Diary), автор неизвестен) или таких, которые воплотили собой всё (шеститомник «Моя борьба» ). Литературная фабрика Интернета готова была заплатить по сто пятьдесят долларов за откровение. «Это 2015 год, каждый — культурный критик и пишет с вершины своего жизненного опыта», — вспоминает Ларисса Фам (Larissa Pham) в своём новом сборнике эссе «Попса» (анг. Pop Song). «Чтобы молодая, жаждущая признания писательница вошла в мир литературы, она должны была решить, на какой из своих психологических травм может заработать... Будь то анорексия, депрессия, обыкновенный расизм или, возможно, такое же несчастье, как моё, когда все три сливаются воедино». Книга «Тело помнит всё» почти три года оставалась в списке бестселлеров «The New York Times».
Психическая травма стала идентичностью. Её статус не пошатнулся ни жаркими дискуссиями по поводу теоретических концепций, ни, что не менее важно, критикой ван дер Колка за недостаток данных в поддержку своей теории травмированной памяти и отсутствие какой-либо доказательной базы (даже собранной им самим). В голову приходят строки из сонета американского поэта Терренса Хейса (Terrance Hayes): «Казалось, мы сможем петь // О том, как провода врезаются в израненные чувства». Возможно, эти врезающиеся провода как раз и есть типичная для нашей культуры травма, образ того, как глубоко она вгрызается в нашу плоть, что трудно отследить её развитие. Утверждая, что психологическая травма — постоянная черта нашего вида, что она занимает определённую позицию в мозге, мы игнорируем факт того, как она развивалась после открытия железнодорожной травмы; так, о таких переживаниях как флешбэки, впервые заговорили лишь с изобретением кинематографа. Те слова, которые слетают с наших губ, когда мы описываем страдания, действительно ли они наши собственные?
Эталон травмы в литературе представлен в романе «Маленькая жизнь» (2015), сосредоточенного на жизни одного из самых порицаемых персонажей, когда-либо омрачавших страницы книг. От Джуда, очевидно названного так в честь Иуды, святого покровителя пропащих душ, отказались ещё в младенчестве. В его жизни было немало кошмаров, включая изнасилование священником, детскую проституцию, издевательства и попытку убийства похитителем, побои и попытку убийства партнёром, ампутацию обеих ног. Он — человек неоднозначной расы, без стремлений, почти немой в отношении того, что касается прошлого, — как шутит его приятель: «Вот тебе пост-сексуальность, пост-расовость, пост-идентичность, пост-история. Пост-человек. Джуд Постчеловек» (пер. Борисенко А. и др., — прим. пер.). Читатель также может добавить: Джут Пост-травмированный.
Психологическая травма довлеет над всеми чертами человека, уничтожает личность, лепит из неё своё подобие. Сюжет строится вокруг того, какую заботу и какое участие проявляет к Джуду его окружение, поддерживая его, борясь с его деструктивным поведением; на самом деле, даже детям не уделяют столько внимания. Читатель, вызванный на суд бесконечных стенаний Джуда, может не понять такой преданности. Действительно ли можно извлечь выгоду из этого ходячего трупа, живого воплощения расстройства DSM? В книгах о травме же логика такова: разбередите рану, и мы поверим, что её сотворило тело, человек.
Поддерживать эту веру довольно трудно. Пробудите страдания, и якобы откроется дверь в некую охраняемую на совесть камеру пыток, но оказывается, что эта дверь — в самую обычную комнату мотеля, и она постоянно занята. Стоило во втором сезоне раскрыть детскую травму Теда Лассо, и он растворился в ней; его неповторимая, почти пугающая жизнерадостность оказалась всего лишь психологической защитой. Он рассказывает о своём прошлом психотерапевту точно так же, как другой персонаж — своей матери (их сцены переплетаются), и оказывается, что оба травматических эпизода произошли в один и тот же день. В этом хороводе откровений четко обозначены уже знакомые проблемы с отцами (сомнительные), тайнами (плохие), а также обоюдные обиды (что тоже плохо), но главное, показана шаткость сюжетного механизма. Стоит зрителям свыкнуться с одной психологической травмой, как её становится мало. Нам необходимо соревноваться с Иовом, соревноваться с Иудой. В сериале «Ванда/Вижн» главная героиня пережила убийство родителей, убийство брата-близнеца и смерть, от её собственных рук, своего возлюбленного, который позже восстал из мертвых и снова был убит. Всё это и дополнительная сюжетная линия с тикающей бомбой.
Психологическая травма стала синонимом истории персонажа; но тирания прошлым сама по себе — явление сравнительно новое, и одна лишь эта условность способна пробудить в нас интерес. Личность не всегда представляла собой рисунок прошлого. Персонажи не вздрагивли от внезапных воспоминаний, они не стремились заполнить пробелы в памяти, из-за которых не могли спокойно жить. Окно в детство занавешено шторами, — так пишет Николас Деймс о традиции «сладкого забвения» в книге «Забывшие себя» (Amnesiac Selves, 2001): согласно ей, для персонажа имеют значение только такие события прошлого, которые полезны ему (и, потенциально, сюжету) в настоящем. То же применимо и к Доротее Брук, Изабель Арчер и миссис Рэмзи (героини фильмов и одноименных романов «Мидлмарч» , «Женский портрет» и «На маяк» , соответственно — прим. пер.). Конечно, создателям классических голливудских лент вполне удавалось оживлять персонажей, не пугая при этом картинами прошлых мучений. Сегодня же, наоборот, персонажей и создают для того, чтобы отправить их в прошлое вынюхивать о своих травмах.
В самом начале «Чертовской книги» ( Hell of a Book ) (получившей национальную литературную премию 2021 года) в фокусе постепенно проступает фигура сидящей на крыльце женщины в старом выцветшем платье: «Обмётка на подоле уже не держится. Нити порвались и растрепались так, что вот-вот вылезут совсем. И теперь, после семи лет тяжелого труда, казалось, бедная ткань платья не выдержит и расползётся». Так и хочется назвать это описание сутью сюжета о травме – потрёпанный и едва сохраняющий целостность, так же, как в романе Мотта. Рассказчик, очень популярный писатель, отправляется в книжный тур и обнаруживает, что его преследует призрак молодого чернокожего парня, убитого полицейскими, который в то же время явлется и ребенком, наблюдавшим, как полицейские застрелили его отца. Но те необъятные, вгоняющие в тоску темы, которые стремится исследовать Мотт, гибнут под толщей дешёвых спецэффектов, скрытых намеков на схороненную в прошлом рассказчика травму: провалов в памяти, беспечных оговорок по Фрейду, мудрых, но пропущенных мимо ушей замечаний психотерапевта. Стоит этой травме увидеть свет, как появляется странное чувство, будто она напрямую не связана с сюжетом и упомянута как бы вскользь, подобно тем двум сюжетным линиям в «Теде Лассо», даёт всё тот же урок (что горе не отступает, психологическая травма всегда настигнет тебя) и никак не помогает понять проблему, на которую указывает Мотт, — проблему полицейского произвола как формы терроризма и вызываемых им беспредельных страданиях. Мотт тянет за все рычаги и ниточки сюжетов о травме, надеясь, что мы не сможем вырваться из лап тревожного ожидания. Но механизм отказывается работать таким образом, и вместо этого рвёт страницы истории.
Я уже слышу ворчание. Разве честно винить рассказчиков за то, к чему привела травма – уничтожила самость, обездвижила воображение, остановила развитие и заставила переживать всё снова и снова? Конечно, несомненно, наш индивидуальный жизненный опыт и культурный опыт не могут быть полностью отделены друг от друга; один раскрывается лишь через другой. И всё же, если верить исследователям и жертвам психологической травмы, за ней ещё много что скрывается. И несмотря на то, что в понятии ПТСР всё перемешалось – как назвал его Дэвид Дж. Моррис (David J. Morris) в книге «Время зла: биография пост-травматического стрессового расстройства» (The Evil Hours: A Biography of Post-Traumatic Stress Disorder, 2015): это «ящик, захламленный несвязанными симптомами», – основной посыл, главная мысль, тем не менее, становится всё более ясной и неопровержимой. В послесловии нового руководства от писателя Дэвида Крисинджера «Истории, которые нас спасают: путеводитель в мире повествования о своих психологических травмах для потерпевших» (Stories Are What Save Us: A Survivor’s Guide to Writing About Trauma, 2021) автор наставляет: «Даже не пытайтесь полностью избавиться от травмы. Забудьте о сказке со счастливым концом. Вы проиграете. Сбежать от травмы не то же самое, что уклониться от взрывной волны».
Известно, что основная задача психологической травмы – это подавить, и в своей новой книге «Передать содержание: сила рассказа о самом себе» (Body Work: The Radical Power of Personal Narrative) пишет, что травма «зачастую не больше чем препятствие на пути к социальной справедливости». Она считает, те, кто косо смотрят на мемуары о травмированном прошлом, примеряют на себя «маску типичного преступника: отрицают, обесценивают и бросают тень на жертв преступлений, только чтобы остаться не при делах и не потерять свою власть». Те, кто борется с травмой и рассказывают о ней, а также исследователи, результаты работы которых противоречат основной позиции, часто не получают заслуженного уважения. В 90-х годах психолог Сьюзен А. Клэнси провела исследование среди взрослых, переживших в детском возрасте сексуальное насилие. Испытуемые описывали гнетущие, бесконечные страдания и вред, вызванный ПТСР, но, что удивительно, многие считали сам по себе факт сексуального насилия не столь травматическим и описывали его скорее как насильственный и пугающий, – такие данные можно объяснить слишком юным возрастом испытуемых на момент нанесения травмы и их неспособностью полностью осознавать происходящее, маскируемое под игру или проявления любви. Срыв наступил уже позже, когда они поняли, что действительно произошло. За одно лишь описание таких наблюдений Клэнси обозвали соратником педофилов, отрицающим психическую травматизацию. Дэвид Моррис, вернувшись с войны в Ираке и проходя лечение ПТСР, пытался разобраться, есть ли хоть какой-то смысл в том, что он пережил. Но врачи лишь повторяли «не уклоняться от строгого режима лечения». Он так и не узнал, как отношение к травме как к болезни поможет ветеранам военных действий выразить свой праведный гнев, не облекая его всего лишь в кучку симптомов.
И не забудьте скверных исследователей, утверждающих, что большинство людей прекрасно переносят травмирующий опыт, а пост-травматическое личностное развитие распространено шире, чем пост-травматический стресс. В своём недавнем эссе в «Харпер Мэгэзин» писатель предполагает, что больше всего выигрывают от построения моделей психологической травмы именно сами исследователи-теоретики, подписывающиеся под вечным «наблюдением» и попытками интерпретировать её. Директор Колумбийской Лаборатории утраты, травмы и эмоций, а также автор эссе «Исход травмы» (The End of Trauma), Джордж А. Бонанно довольно резко высказывает следующую мысль: «Кажется, людям тяжело отказаться от убеждения, что каждый из нас травмирован».
Когда Вирджиния Вулф писала о своем собственном опыте сексуального насилия в детстве, она остановилась на достаточно осторожном описании себя как «человека, с которым случается всякое». Не на всех маска психологической травмы сидит как влитая. в графическом романе «Маус» стремится понять своего невыносимого отца, пережившего Холокост. «Раньше я думал, что это война сделала его таким», — говорит он. А мачеха, Мала, отвечает: «Фа! Я была в лагерях. Все наши друзья были в лагерях. И никто не стал таким, как он!» Мала не подстраивает своё представление о муже или жизни под насильственную, красивую картинку психологической травмы. Но есть и другие Малы, сомневающиеся. Они видятся мне везде, даже в самых темных углах типичных рассказов о травме разного рода, раскрывая историю изнутри.
Сама тема травмы стремится избежать ярлыка саркастичной, смешной, критикующей или выдуманной, а также жестких рамок жанра и ожиданий аудитории. Главная героиня сериала Netflix «Как же хорошо...», Мэй, – комедиантка, которая борется с зависимостью и страдает от беспокоящих её флешбэков, – стремится подогнать нелицеприятные чувства о своём прошлом хоть под какой-нибудь четкий диагноз или план лечения («Люди сегодня просто одержимы травмой, — сокрушается Мэй. — Это слово буквально повсюду»). Героиня Михаэлы Коэл в сериале «Я могу уничтожить тебя» узнает, что её опоили и изнасиловали, так сюжет снова подпадает под шаблонный сценарий; одни из наиболее интересных сюжетных линий сериала сосредоточены вокруг болезненного прошлого, из-за чего нам приходится всматриваться в страдания других. Рассуждения о психологической травме в сборнике Энтони Весны Со «После вечеринки» (Afterparties) приправлены злобой, насмешками и апатией. «Перестаньте уже оправдываться геноцидом в любых спорах», — говорят своим камбоджийским родителям их американские дети.
в книге «Нью-Йорк, моя деревня» (New York, My Village) и в книге «Жажда» под лупой рассматривают расовую травму чёрнокожих. Персонаж Лейлани, Эди, одна из исключительно чёрных работников издательства, просматривает раздел «распродажи книг о культурном разнообразии» и натыкается на «рассказ девочки-рабыни смешанной расы о том, как она борется за клочок земли поместья своего отца; рассказ рабыни о стремительно развивающейся дружбе с белым школьным учителем, который самоотверженно учит её читать; рассказ рабыни о печальной мулатке, воскрешающей мертвых с помощью волшебных пирогов из свиных рубцов; местечковая драма о черной служанке, которая, подобно коту Шрёдингера, и мертва, и жива».
В сериале «Псы резервации» телеканала FX, где события разворачиваются на индейской территории Оклахомы, сюжет о коренном народе ожидаемо фокусируется на травме. Шестнадцатилетний парень по имени Медведь и его друзья перешли дорогу членам враждебной группировки, которые, остановив машину, начали их расстреливать. Медведь всем телом содрогается, поворачивается и падает, невыносимо медленно. Он пал жертвой... пейнтбольного сражения. Это тонкая пародия на сцену смерти сержанта Элайса в исполнении Уиллема Дефо из фильма «Взвод». И будто бы мало сыграть на одной этой травме, как перед Медведем возникает образ воителя-индейца верхом на коне, прорывающегося сквозь туман. «Я сражался в битве при Литтл-Бигхорн», — говорит он, будто заранее подготовил для Медведя речь о тяжелых временах и героизме. А затем добавляет: «Я никого не убил, но отважно сражался». И уточняет ещё: «Точнее, я не участвовал в самом сражении, но я пересек эту гору и будто прошёлся по раскаленным углям». Юмор защищает настоящие чувства от сентиментальности, из-за которой особенности коренных народов были обесценены и забыты. Мы узнаем, что Медведь и его друзья пытаются пережить самоубийство члена их группы. Живя в резервации, они сталкиваются со всеми современными проблемами, но горе — не единственное, что их определяет, в том числе и в наших глазах. Они — подростки и проявляют себя типичным способом: через свой стль, через безумные планы и через свою животную преданность друг другу.
Я слышала, как говорят «моя травма»: со странной ноткой нежности, пряча за ней нечто жесткое, неприступное (неужели это своего рода черный юмор со стороны Янагихары, что прообраз Джужда можно найти у Фрейда в «О нарциссизме»?). Часто из этого рождается нечто, что легко можно увидеть наглядно, самость, которую легко можно диагностировать. Однако, в умелых руках сюжет о психологической травме становится только началом – продолжение и конец придётся искать в других местах. Расширяя восприятие, мы переходим от психической проблемы к проблеме поколения, социума и политической обстановки. Открывается портал не только в прошлое, но и в язык. «Заикающийся, ломаный, нечеткий — язык боли, боли, которую мы разделяем с другими», — пишет в книге о женоубийстве в Мексике «Боль потери» . «Где страдания, там и политическая ответственность озвучить: ты меня ранишь, я страдаю вместе с тобой». Кажется, подобное отношение к прошлому вызвано романами , видевшей в своих работах будущее, о котором не говорят и которое стирают из памяти, а также работами , убежденной, что историческая литература — форма заботы об умерших. Вспомните протагонистов-историков «Песни о любви W. E. B. Du Bois» и «Возвращения домой» . В этих романах травма — лишь первый шаг. Нужно совершить его, разве есть другой выбор? В «Возвращении домой» студент Маркус пишет о своём прадедушке, который был арендованным заключенным в Алабаме во времена, наступившие после гражданской войны. Он понимает: чтобы рассказать историю верно, нужно припомнить законы Джима Кроу о расовой сегрегации; но как можно упомянуть о Джиме Кроу и не рассказать о своей семье, которая в период Великой миграции пыталась от них скрыться, а также об их жизни на севере и о «войне с наркотиками»? В голову приходит сцена из романа «Авессалом, Авессалом!» : два пруда, соединенных «тонкой водяной пуповиной», один питает другой (пер. Мэри Беккер — прим. пер.). В один бросили камешек. На поверхности возникли круги, а затем и гладь другого пруда – пруда, в который камень не бросали, – начинает колыхаться в том же ритме.
И что же за водяная пуповина соединяет нас с той плачущей женщиной Вирджинии Вулф, от которой как-то зависела судьба английской литературы – женщиной, окруженной морскими ежами, примостившейся на краешке кресла, не снимая пальто, соскребающей ужин со своего блюдца? Почему нам так приятно размышлять об этих морских ежах – столь таинственных и столь много о чем говорящих? Я бы ни одного не променяла на то великое множество ужасающих секретов, которое хранит прошлое этой дамы. Это одна из тех деталей, которые вызывают столь необходимое при чтении любопытство – мы жаждем не изобилия фактов, а именно эту невесомую, практически невидимую пищу для воображения: когда видим незнакомых людей, соединяем что-то воедино, когда что-то знаем и не знаем чего-то.
Неуверенность и незнание — одно из тех огромных, но недооцененных удовольствий, которые приносят книги. Почему Гедда Габлер никак не оставит нас в покое? Кто, Джин Броди думает, она такая? Чего хочет Сула Пис (героини пьесы , романа и романа , соответственно, — прим. пер.)? Молодость Сулы просто разрывается от всяких происшествий, каждое из которых потенциально может обвиться проводом вокруг её личности, как того предполагает тема травмы, оставить на ней рубцы – воспоминания того, как на её глазах утонул мальчик, а мать сгорела заживо. Но она не есть сумма этих происшествий; с самого первого появления в романе, поступив непредсказуемо и невообразимо жестоко, она сама строит свою судьбу. В то время как сюжет о травме предоставляет нам все двери и ключи к ним, Моррисон даже не пытается рассказывать, что происходило с Сулой за те десять лет, когда её не было ни в городе, ни в самом романе. Существование Сулы не определяется одобрением или осуждением с нашей стороны, и именно потому что она существует сама для себя, в награду ей мы даём нечто большее: наше безграничное восхищение её стилем, безмолвием и несогласием. Американский литературовед , говоря об отсутствии в пьесах Шекспира какого-либо причинного объяснения сути персонажей, использует понятие «продуманная неясность». В подлинниках «Короля Лира» и «Гамлета» достаточно четко описаны мотивы героев; но Шекспир вычеркнул всё, и наружу вырвалась некая энергия, сдерживаемая лишь общепринятыми толкованиями.
Не только эта энергия, сокрытая в пьесе, вырывается наружу. Но и энергия зрителя, читателя, сила нашего воображения, которая стремится заполнить пустоты. В эссе «Мистер Беннет и миссис Браун» Вулф называет такой позыв к представлении частной жизни — искусством юности, чем-то вроде элексира жизни – и искусством письма, от которого не устаёшь, и благодаря которому видишь в вагоне поезда плачущую женщину и представляешь себе её внутренний мир. Но это также и территория читателя. Вновь взглянув на моё описание пожилой дамы, я поняла, что это я добавила ей пальто. Представляя сцену, я каким-то образом накинула ей на плечи пальто, которое раньше у меня было, ужасно непритязательное, но дорогое сердцу – мои старые доспехи. Я взволнована и растеряна, увидев его здесь. Рассказы полны наших отпечатков и старых пальто; мы создаём их вместе. А значит, создаём и это чувство опустошения из-за во многом уже определенного прошлого, и чувство нашей собственной ненужности, и бросаем вызов нашей интуиции.
В рассказах о психологической травме персонажи становятся плоскими, гротескными, сведенными к симптому, а за самой травмой сохраняется статус морального авторитета, руководящего ими. И якобы всё просто, но утешения в этом не наступает. То, что мы знаем, обесценивается, и нас просят об этом забыть: забыть о блаженстве неведения, о страданиях, о которых можно только догадываться, о странностях характера, а также, помимо всего прочего, об уютной комнате, украшенной морскими ежами.
Парул Сегал (Parul Sehgal)
Совместный проект Клуба Лингвопанд и редакции ЛЛ
Комментарии 4
Показать все

Статья интересная, а тема эта очень важная. Травмированных людей чрезвычайно много, и это очевидно, что они были бы совсем другими (я имею в виду в лучшую сторону) без этих травм.
Психологическая травма стала синонимом истории персонажа; но тирания прошлым сама по себе — явление сравнительно новое, и одна лишь эта условность способна пробудить в нас интерес.
Мне очень интересны те персонажи, которые побеждают эти травмы, выживают, разбираются во всём этом. А травма сама по себе не вызывает интереса, даже отталкивает, расстраивает. С удовольствием читаю историю побед.
Спасибо за перевод!

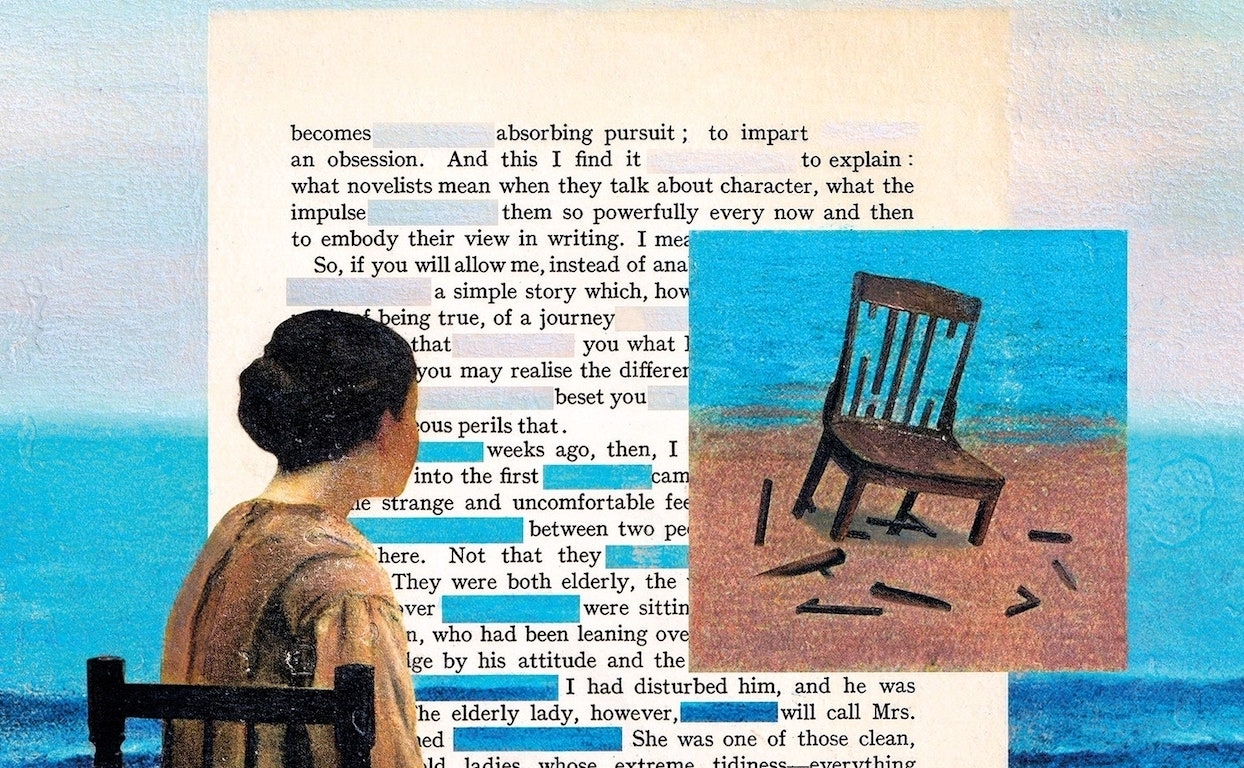













Очень понравилась данная статья! Вечером ещё раз перечитаю!