20 августа 2020 г., 13:57
1K
Филип Рот смеется в последний раз
Автор: Бенджамин Тейлор
24 апреля 2018: «Готовься, Бен, — звонит, чтобы сказать мне это. — Наш любимый “Тефтель” был понижен Департаментом Здравоохранения с категории А до категории В. Это уничтожит их! Люди увидят мерзкую зеленую В в окне и обойдут их стороной». Я сказал, что видел кое-что и похуже в паназиатской дыре двумя кварталами дальше. «Знаю, знаю! — ответил Филип. — Они получили трупно-ядовитую, оранжевую С. У дверей тебя встречает крыса в смокинге».
Ему пора по делам, он вешает трубку, не прощаясь. Приятно слышать его таким энергичным. Но через пять дней он звонит сказать, что ему «дурно» — один из его старомодных речевых оборотов. Я говорю, что останусь на ночь в его квартире. Около двух ночи я слышу, как он кричит у себя в комнате. Ему совсем плохо. Набираю 911. Скорая прибывает достаточно быстро, но что-то не так с дефибрилляцией. Я понимаю по разговору врачей, что Филип может умереть. Одну-две бесконечно долгие минуты спустя сердечный ритм восстанавливается. Мы перевозим его сначала в Больницу Леннокс-Хилл, затем — в тот же день, но чуть позже — в Пресвитерианскую больницу Нью-Йорка, которую он уже не покинет.
Следующие двадцать два дня каждое утро я выходил из дома, шел на Коламбус-Сёркл и ехал на поезде А до Пресвитерианской больницы Нью-Йорка. «Что нового в Риальто?» — обычно спрашивал он, стоило мне войти в палату. Что угодно может стать приключением, даже поездка по линии А. Однажды утром я ехал в полупустом вагоне, зашел молодой дюжий попрошайка и заявил: «Дамы и господа! Дамы и господа! Я пытаюсь собрать немного денег, вдруг кто-то из вас, важнюков, пожелает помочь».
Я рассказал об этом, и Филип запрокинул голову: «О, Солу [Беллоу] бы это ужасно понравилось! Он обязательно использовал бы это».
— Честно говоря, я не заметил в поезде никаких важнюков.
— Если только он не имел в виду тебя, Бен.
Тогда мы последний раз смеялись вместе.
«Лигт ин дрерд», — говорил он о тех, кто умер. «Лежит в земле». Он обожал идишские выражения. «Как жаль, что наш изначальный язык, на котором ашкеназы говорили во времена Чосера, зачах в Америке до нескольких бытовых выражений. Европейский язык, породивший великую литературу, теперь низведен до шуток “Борщового пояса”».
Как и Филип, я не мог представить своих любимых людей в земле, как это представлялось в том идишском выражении: происходящие там медленные процессы, где нет ничего, только, как он написал в «Театре Шаббата» , «неизбежная прямота, не говоря уже о скуке, смерти», где мы лишены «радости существования, которую, должно быть, ощущают даже блохи».
Сол Беллоу был уверен, что встретится со своими родителями после смерти. Филип Рот был уверен, что с ним этого не произойдет. Вот в чем была разница между ними. Кто бы не ухватился за горячее желание верить? Мы безразличны к столетиям, прошедшим до нашего рождения, но думать о столетиях, которые пройдут после того, как нас не станет, просто невозможно. Как можно свести к нулю меня как величину? Как мама и папа могут умереть — просто умереть? Как это — мы больше не будем вместе? Как такое возможно? Когда в «Войне и мире» князь Андрей умирает, Наташа поворачивается к княжне Марье и спрашивает, говоря за всех нас: «Куда он ушел? Где он теперь...?» Филип же решил просто переименовать смертность в «бессмертие» и объявить себя неуязвимым, пока смерть не сокрушит его. Это неплохой способ навести глянец на извечную человеческую проблему.
Несколько лет назад, весенним днем, мы проходили мимо Тайм Уорнер Центр на Коламбус-Сёркл и заметили группу Атеистов Нью-Йорка в магазине с обвисшим навесом и слюдяными окнами. Внутри размытые фигуры неверующих распространяли свои памфлеты и пытались вовлечь вас в философскую беседу.
— Почему будка атеистов так жалко выглядит? — спросил Филип.
— Да, это не день святого Патрика.
— За баснями стоят большие деньги. Басни живут веками.
— Если бы не было басен, не было бы ни искусства, ни музыки, ни поэзии, порожденных ими.
Каждый раз, когда во время прогулки Филипа посещала какая-нибудь мысль, он резко останавливался.
— Религии — это убежище слабых умов. Я бы пожертвовал любым искусством, музыкой и даже поэзией, порожденной ими, если бы только мы могли освободиться от них.
— Мессой си минор? Сикстинской капеллой? Стихами Джорджа Герберта?
Мимо проходит человек с восемью или десятью собаками всех форм и размеров. Филип говорит:
— Видишь? Между собаками разных пород существует идеальное согласие. Бордер-колли обожают дворняг. Ньюфаундленд занялся бы любовью с таксой, если бы мог. А почему? Потому что у собак хватает мудрости не иметь религии.
— В моей семье часто говорили о Боге. «Если ты солжешь, Бог все узнает» — и тому подобное. В твоей семье было не так?
— К счастью, нет. Нашим Сионом стали Соединенные Штаты. Нашим божеством был Франклин Рузвельт. Моя мать зажигала свечи в пятницу, это правда, но только из почтения к собственной матери.
Я говорю:
— Мне кажется, Романтики были правы. Они сказали, что Бог и воображение едины. Если бы, проходя таможню, я должен был заявить какую-нибудь религиозную ценность, я бы заявил эту формулу.
Иногда Филип впадал в иное настроение и снимал свое порицание с «великой, отражающей реальный мир религии» древних греков. В «Людском клейме» он пишет: «Не иудейский Бог, бесконечно одинокий, бесконечно туманный, бог-мономан и бог мономанов, единственный бог, какой был, есть и будет, бог, у которого на уме лишь одна забота — евреи. И не идеально бесполый христианский человекобог с его непорочной матерью и со всем его неземным совершенством, которое для людей оборачивается стыдом и чувством вины. Нет — греческий Зевс, жадный до приключений, ярко экспрессивный, капризный, чувственный, самозабвенно погруженный в свое собственное бьющее через край существование, уж никак не одинокий и яснее ясного видимый. Божье клеймо» (пер. Л. Ю. Мотылева).
Если бы греческие боги до сих пор существовали, представьте себе их салон на Коламбус-сёркл. Атеизму пришлось бы свернуть свой навес и уползти.
В «Мой муж — коммунист!» Марри Рингольд представляет нам таксономию американских евреев. Читая этот отрывок, невозможно не узнать некоторых знакомых: «Вежливые евреи…, еврей, не к месту хихикающий, еврей, всех без разбору возлюбивший, еврей, вечно растроганный, еврей, боготворящий маму с папой, еврей, на все готовый ради одаренных деток, еврей, сыплющий каламбурами и анекдотами, … еврей, который – ах, слушает Ицхака Перлмана и плачет» (пер. В. Б. Бошняка) и так далее. Со скоростью молнии они проложили путь из своих штетлов и стали столпами американской жизни. Они знали, что их блестящие перспективы произрастали из самого ужасного за тридцать столетий еврейской истории события, что они процветали, даже когда их европейские собратья канули в бездну.
— И эта страна дала евреям… — сказал я как-то вечером, но Филип оборвал меня.
— Вопрос в том, что евреи дали этой стране. В области науки, искусства, медицины, филантропии. И знаешь почему? Потому что ночь за ночью, год за годом, десятилетие за десятилетием мы ложились в постель трезвыми. Вот так просто. Как мы могли не обижаться на наших пьющих гойских братьев? Я рассказывал тебе о разборках с этим алкашом Капоте?
Рассказывал, даже разыграл для меня сценку. В первом акте он сидит дома, смотрит Джонни Карсона, и тут в шоу появляется Труман и начинает объяснять, что культура в Америке находится под пятой «еврейской мафии, которая рулит всем: от Колумбийского Университета до Коламбиа-Пикчерз». Во втором акте спустя несколько недель Филип встречает Капоте у Джорджа Плимптона, зажимает его в угол и говорит: «Я видел тебя на “Вечернем шоу” и посмотри на самое большое исключение из того, о чем ты говорил».
— Ничем не могу помочь! — говорит Труман и сбегает.
Занавес.
— Какая жалость, что я позволил ему ускользнуть и исчезнуть в своем золотом облаке. А сам остался как оплеванный. Нет, автору «Хладнокровного убийства» не было дела до честного бедного еврея Филипа Рота. Мое имя не было включено в Нью-Йоркский социальный реестр, я даже не знал, как правильно пить или курить сигареты.
Плимптон стал одним из первых нееврейских друзей Филипа.
— Я думал, они все такие, — говорит он со смешком. — Его гладкость и высокомерие, которое он нес с легкостью, были откровением. Его книги о гонзо-журналистике привнесли нечто новое, доселе невиданное — легкомысленный, бездумный стиль автобиографии, рожденный высшей уверенностью в себе.
Прочитав рукопись «Призрак уходит» , последний роман, рассказанный Натаном Цукерманом, с восьмистраничным экскурсом в историю Джорджа, я показал Филипу найденный мной необычный снимок. Плимптон сидел в Элейн’с, прекратившем свое существование манхэттенском ресторане, знаменитом клиентурой высокого класса и ужасной едой. Джорджа окружали праздные гуляки. Казалось, веселью нет конца. Все, от чего бежал Цукерман, скрывшись в Беркшире, сосредоточилось в этом гламурном снимке.
— Вот и обложка твоей книги, — сказал я. — Эта фотография полна соблазнов, которые Натан, человек-призрак, оставил ради искусства.
Но фотограф по глупости начал торговаться, и Филип решил отказаться от снимка. Я и сейчас хотел бы, чтобы он раскошелился на права на использование изображения. Обложка получилась бы невероятная.
Цукерман, выступающий рассказчиком в девяти книгах Филипа, является воплощением железной дисциплины и самоотверженного творческого вдохновения. Молодой помощник, которого мы впервые встречаем в «Литературном негре», преображается в скандально известного автора в «Цукермане освобожденном» , «Уроке анатомии» и «Пражской оргии» . Когда мы снова встречаем его в «Другой жизни» , он женат в четвертый раз, на Марии Фрешфильд, и они ожидают рождения ребенка. Первой, второй и третьей женам Цукерман отправляет воздушную фразу в «Уроке Анатомии»: «загадка бесстрастных браков с тремя примерными женщинами». В «Фактах» ( «Facts» Philip Roth ), опубликованных после «Другой жизни», Мария все еще беременна. Кажется, это довольно долгий срок. Филипу нет дела до любовной или супружеской жизни Натана — не говоря уже о его родительских перспективах (проще представить с ребенком Грету Гарбо, чем Натана Цукермана). Для него важна творческая борьба, а не любовь, брак или родительство, и его создатель совершил большой промах, наделив своего героя-рассказчика убедительной брачной историей.
В романе «Призрак уходит» наш герой, рассказавший нам истории Шведа Лейвоу, Айры Рингольда и Коулмена Силка, возвращается, как Рип ван Винкль, после долгих лет одиночества в Нью-Йорк — сильно изменившийся за это время. 2004 год. Цукерман настолько отошел от общественной жизни, что едва ли слышал об 11 сентября. Все изумляет его. Полностью посвятив себя превращению год за годом сырой, необработанной жизни в слова на странице, он стал призраком среди живущих — но призраком, жаждущим последнего взрыва чувств, последнего кусочка ненаписанной, неизмененной «настоящей» жизни. Но ничего не выходит. Он давно уже не получает впечатлений. Он годами был бессильным и бессодержательным, отрезанным ломтем. Как Филип сказал в интервью: «вся турбулентность бытия, все его деяния и ошибки, соблазны погони за счастьем — всё это рисует наши жизни, поскольку наши личные испытания и исторические перипетии полностью захватывают его воображение и кормятся силой энергии его разума».
Несколько дней спустя он уезжает из Нью-Йорка так же внезапно, как и приехал. Так Филип прощается с Натаном Цукерманом, своим сумбурным творением. «Уходит навсегда» — последние слова книги.
Проходя по Коламбус-Сёркл 20 мая 2018, в день, когда стало очевидно, что Филип уже не поправится, — в прекрасный весенний день, подарок небес, день, ни в чем не имевший недостатка, — я безуспешно искал наших атеистов. Ушли навсегда? Их место было занято сторонниками Линдона ЛаРуша с портретами их тогдашнего героя, Дональда Трампа (тремя годами ранее они стояли с плакатами Обамы с гитлеровскими усиками). Меня трудно разозлить, но если это происходит, я впадаю в безумие. И вот, что произошло дальше: я разорвал одну из фотографий. «Мистер, мистер, прошу вас!» — закричал ларушианец. Я спихнул их так называемую «литературу» со столика в грязь, где ей самое место. Другой адепт просил прохожих позвонить в полицию, но они только смеялись в ответ. Я не смеялся. Я был в ярости. В отчаянии. И невинен, как ягненок.
Отрывок из «Вот и мы: моя дружба с Филипом Ротом» (Here We Are: My Friendship With Philip Roth) Бенджамина Тейлора, издано в мае издательством Penguin, импринт Penguin Group, подразделения Penguin Random House, LLC. Copyright (c) 2020 Бенджамин Тейлор

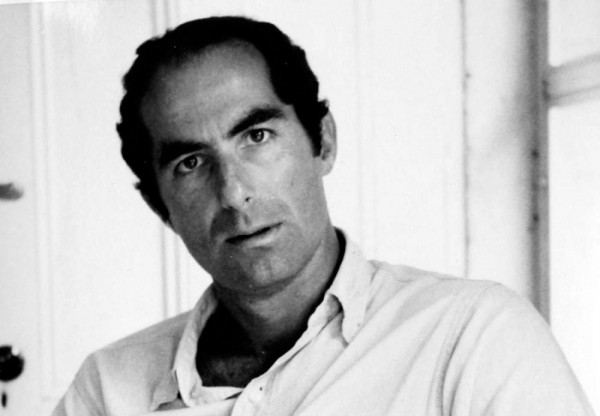
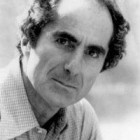

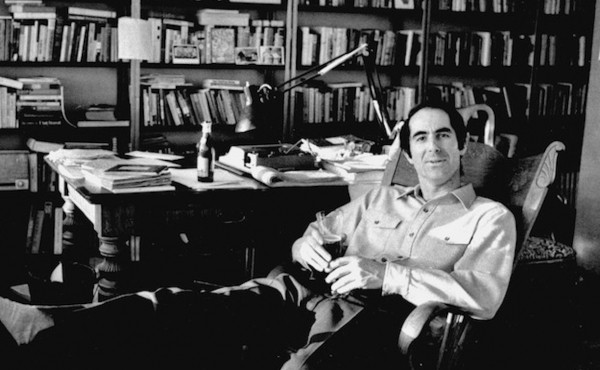



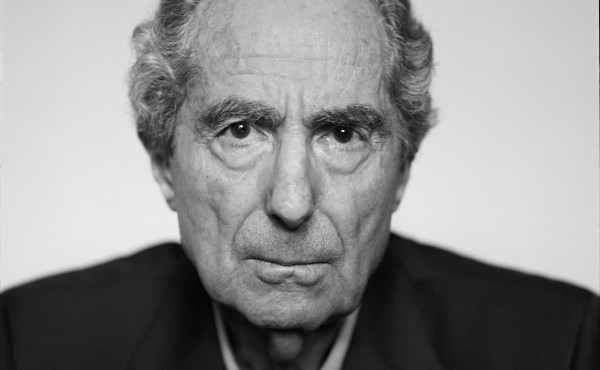


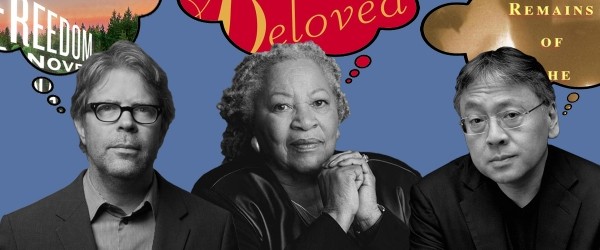
Комментариев пока нет — ваш может стать первым
Поделитесь мнением с другими читателями!