4 июня 2021 г., 14:25
4K
Изящество Тэффи
Этот текст – предисловие к новому сборнику рассказов российской писательницы Тэффи «Иные миры: крестьяне, пилигримы, духи, святые», изданному в «Нью-Йорк Ревью Букс»
«Некоторые писатели мутят свою воду, чтобы глубокой казалась она. Тэффи совсем не такая: ее воды кристально прозрачны, и видно до самого дна».
—
Случаи, когда за писателем закрепляется ложная репутация, нередки, но едва ли кто-то из великих писателей пострадал от этого сильнее . Ее лучшие работы иначе как безысходными и не назвать, но многие соотечественники знают ее только по комическим и сатирическим зарисовкам раннего периода 1901-1918 годов. Немногие критики замечали ее человечность, чеховскую способность убедительно писать о представителях всех сословий: неграмотных крестьянах, респектабельных буржуа, монахах и священниках, эксцентричных поэтах, растерянных эмигрантах и известных людях – от Толстого до Распутина и Ленина. Не говоря уже о ее удивительном таланте писать о детях, показывать мир с точки зрения маленького ребенка.
Всю свою жизнь Тэффи была воцерковленной православной, при этом для нее были одинаково важны православие и более древние русские верования с их поэтическим пониманием духовной жизни. Она сама считала, что в лучших ее рассказах заметно влияние этих тем. В декабре 1943 года она писала историку Петру Ковалевскому: «Какие из моих вещей я особенно ценю? Думаю, “Соловки”, “Тихая заводь” и сборник “Ведьма” написаны хорошо. В “Ведьме” вы найдете наших древних славянских божеств, какими они до сих пор пребывают в душе народа, в легендах, суевериях и обычаях. Какими я их узнала в детстве в русской глубинке».
Тэффи редко так прямо писала о своих работах. Я знаю только еще один отрывок, написанный в таком же духе:
В те годы моего далекого детства проводили мы лето в чудесной благословенной стране – в Волынской губернии, в имении моей матери.
Я была еще совсем мала, только что начала учиться грамоте, значит, было мне около пяти лет. <…>
То, что у больших, у взрослых, проскальзывало быстро, то у нас в детской изживалось бурно, сложно, входило в игры и в сны, вплеталось цветной нитью в узор жизни, в ее первую прочную основу, которую теперь с таким искусством и прилежанием разыскивают психоаналитики, считая важнейшей первопричиной многих безумий человеческой души…
Мы подбирали рассказы для сборника, руководствуясь этими словами. Мы перевели все, кроме одной, истории из «Ведьмы», включили два других рассказа, которые упоминает Тэффи: «Соловки» о паломничестве на Соловецкие острова и «Тихую заводь» с запоминающимся монологом о святых покровителях птиц, животных и насекомых. Также мы выбрали еще десять рассказов со схожей тематикой, большинство из сборника «Неживой зверь», первого, который не был чисто юмористическим. Рассказы в нашем издании расположены в основном в порядке публикации, за исключением только «Кишмиша», написанного значительно позднее: эта короткая отчасти автобиографическая история служит отличным предисловием к остальным рассказам «Иных миров».
Это первый сборник, который объединяет рассказы Тэффи по «иномирному» принципу. Надеемся, что он сможет более ясно показать ее глубину, скрытую за блестящим стилем и ослепительным остроумием.
Сама Тэффи видела, что ее работы часто понимают превратно. В предисловии к «Неживому зверю» она писала:
Я не люблю предисловий. <…>
Я бы и теперь не написала предисловия, если бы не одна печальная история…
Осенью 1914 года напечатала я рассказ «Явдоха». В рассказе очень и грустном и горьком говорилось об одинокой деревенской старухе, безграмотной и бестолковой и такой беспросветно темной, что когда получила она известие о смерти сына, она даже не поняла, в чем дело, и все думала — пришлет он ей денег или нет.
И вот одна сердитая газета <…> негодовала на меня за то, что я якобы смеюсь над человеческим горем.
— Что в этом смешного находит госпожа Тэффи! — возмущалась газета и, цитируя самые грустные места рассказа, повторяла:
— И это, по ее мнению, смешно?
— И это тоже смешно?
Газета, вероятно, была бы очень удивлена, если бы я сказала ей, что не смеялась ни одной минуты. <…>
И вот цель этого предисловия — предупредить читателя: в этой книге много невеселого.
Некоторые рассказы из «Неживого зверя» кажутся поразительно современными. Недопонимание журналиста – отличный индикатор того, насколько Тэффи опережала свое время. Явдоха, героиня одной из историй, живет одиноко – компанию ей составляет только хряк – и горбата оттого, что ее избушка наполовину ушла в землю. До ближайшей деревни почти десять километров, и она оторвана не только от других людей, но и от всей страны. Когда кто-то читает ей письмо, сообщающее, что ее сын погиб, она повторяет слово «война», но непонятно, понимает ли она его значение – и она уж точно не понимает, что ее сын умер. Такая Явдоха могла бы быть героиней поздней пьесы .
Любопытно, что недопонимания, очень сродни журналистскому, – главная тема «Неживого зверя». В одних рассказах причиной недопонимания становится разница в общественном положении, в других молодые и здоровые не в состоянии понять старых и нуждающихся, в третьих взрослые не понимают или даже не пытаются понять детей. В описаниях таких ситуаций Тэффи часто бывает безжалостной: например, в рассказе «Счастье» она называет счастье «пустым и голодным», пишет, что для выживания его нужно «накормить и отогреть теплым человеческим мясом» или чужой завистью. Но некоторые рассказы проникнуты настоящими любовью и состраданием. Героиня «Дэзи», на вид – пустоголовая аристократка, записывается в сестры милосердия только потому, что это модно, но очень быстро погружается в работу и сама удивляется, как глубоко ее трогает благодарность неграмотного солдата, за которым она ухаживает. Похожее происходит и в «Сердце»: легкомысленная артистка Рахатова едет на богомолье в отдаленный монастырь и шутки ради приходит на исповедь к простоватому старому монаху. Ее поражает внезапная радость монаха, когда она говорит, что у нее «особых грехов нет»:
Она увидела такие счастливые, такие ясные глаза, что они словно дрожали от своего света, как дрожат слишком ясные звезды, изливаясь лучами. <…>
– Ну и слава Богу, что нету! И слава Богу!
Он весь трепетал; он весь был, как большое отрубленное сердце, на которое упала капля живой воды, и оно дрогнуло, и дрогнули от него мертвые, отрубленные куски.
Как и всегда у Тэффи, образный ряд тщательно проработан: последнее предложение отсылает к сцене, которая накануне встретила Рахатову и ее приятелей на въезде в монастырь:
Мужик рубил рыбу широким ножом <…>
Потом взял ведро и окатил водой перерубленную, с отвалившейся головой рыбу. И вдруг что-то дрогнуло в одном из средних кусков; дрогнуло, толкнуло, и вся рыба ответила на толчок так, что даже отрубленный хвост ее двинулся.
– Это сердце сокращается, – сказал Медикус.
Тэффи, родившаяся в 1892 году, была современницей и других ведущих русских символистов. Ее поэтические опыты скорее вторичны, зато в прозе в полной мере проявляется талант привносить символизм и образность в повседневность. «Сердце» настолько реалистично, что может казаться едва ли не банальным, но оно пронизано христианским символизмом, основанном на образе рыбы. В «Тихой заводи» единение земного и божественного еще сильнее: ближе к концу этого семистраничного рассказа прачка пространно рассуждает об именинах животных, птиц и насекомых. Она рассказывает юному собеседнику об именинах лошади, пчелы, червяка – и даже самой земли: «А в Духов день — земля именинница. В Духов день землю никто беспокоить не смеет. Ни рыть, ни копать, ни цветов рвать — ничего нельзя. Покойников зарывать нельзя. Грех великий землю в ейные именины обидеть. Зверь понимающий — и тот в Духов день землю когтем не скребнет, копытом не стукнет, лапой не ударит. Великий грех». В ключевом произведении, практически манифесте, французского символизма описывает мир как паутину мистических «соответствий». Видение Тэффи менее грандиозно, но очень созвучно. Мне кажется, ее восхищал этот парадокс: именины земли на День Святого Духа, хотя логичнее было бы отмечать их в день святого, как-то связанного с земляными работами.
«Неживой зверь» замечателен своими потрясающими образами, примерами живой крестьянской речи, а еще тем, что сборник – одно из немногих произведений русской литературе, показывающих Первую Мировую войну глазами мирного населения. В своих взглядах на эгоизм и испорченность Тэффи непримирима, но это не умаляет ее веру в христианскую любовь – как ее ощутили Дэзи в полевом госпитале или Рахатова на исповеди, как она воплощается в щедром и целительном народном понимании религии.
В начале 1920-х Тэффи переехала в Париж. Куда бы ни приезжали русские эмигранты, они первым делом основывали издательство, и за рубежом Тэффи стала одним из самых популярных авторов. Только в 1921 было опубликовано пять ее книг: два небольших сборника статей и рассказов в Берлине, сборник комических зарисовок в Шанхае, сборник «Черный ирис» в Стокгольме и сборник «Тихая заводь», в который вошли в основном рассказы из «Неживого зверя», в Париже.
Популярность Тэффи можно проследить и по публикациям в прессе. В первом же выпуске «Последних известий» в апреле 1920 появился рассказ «Ке фер?» (от фр. «Que faire?», «Что делать?»), мастерски показывающий отчужденность русских в Париже. «Соловки» – почти карикатура на паломничества по святым местам – была напечатана в августе 1921 в первом выпуске шикарного, щедро иллюстрированного журнала «Жар-птица», собравшего работы самых известных писателей и художников-эмигрантов. Можно сказать, что две эти публикации наметили творческие пути Тэффи на следующие пятьдесят лет: многие ее рассказы посвящены горестям и глупостям эмигрантского быта, остальные – утерянному прошлому.
«Соловки» были повторно опубликованы в «Вечерней газете». Рассказы из следующего сборника 1927 года, «Городок», в «Иные миры» не попали: они в основном рассказывают об эмигрантском настоящем – жизни «городка» русских в Париже, – а не российском прошлом. Зато мы взяли три рассказа из «Книги Июнь». Заглавный рассказ о необычайном по силе религиозном переживании тематически близок к «Соловкам», но не в пример более доброжелательный. Здесь Тэффи уделяет больше внимания внутреннему миру героини, ее невысказанным мыслям и переживаниям, и это одно их самых тонких у Тэффи описаний жизни подростка.
В сборнике «Ведьма» большинство рассказов названо в честь фольклорных персонажей: «Ведун», «Домовой», «Русалка». Здесь есть истории мрачные и причудливые, есть серьезные и философские; есть реалистичные, разве что с тонким налетом сверхъестественного, а есть такие, в которых сверхъестественное проявляется заметно сильнее. В одних рассказах герои откровенно прикрывают свое неблаговидное поведение неубедительными ссылками на сверхъестественные силы; в других – скептики и рационалисты остаются в дураках. Рассказ «Домашние» даже и рассказом назвать нельзя – это скорее вольный пересказ энциклопедической статьи с коротеньким анекдотом в финале.
Все рассказы написаны с позиции эмигранта, часто в ностальгическом тоне. Иногда в них звучит недоверчивое удивление: неужели все это на самом деле происходило? Неужели эта прежняя Россия действительно существовала?
«Ведьма» – цельный и самодостаточный сборник, но его основные темы можно проследить уже в двух последних рассказах «Книги Июнь», «Диком вечере» и «Оборотне». Их героиня, как и героиня первого и последнего рассказов «Ведьмы» явно автобиографична. В 1892 году, когда Тэффи было двадцать, она вышла замуж за адвоката Владислава Бучинского. О ее жизни молодой жены и матери в провинциальных городках известно мало, но из того, что она говорила позднее, можно заключить, что она была глубоко несчастна.
«Дикая ночь» рассказывает о страхе перед неизвестным: за исключением хитрого лавочника, все в рассказе – молодая Тэффи, монахи, даже лошадь – охвачены ужасом. Отовсюду подкрадываются пугающие сущности: темнота, коровья чума – мир кажется вымершим. «Оборотень», возможно, фантазия о том, как могла бы сложиться жизнь: из-за случайного вмешательства совершенно незнакомого человека героиня отказывает юристу, который очень похож на Бучинского. В первом заглавном рассказе из «Ведьмы» взаимное раздражение между молодыми мужем и женой нарастает пропорционально страху (в котором они никогда друг другу не признаются), что их горничная – ведьма. В последнем рассказе «Волчья ночь» мы видим этих же мужа и жену пару лет спустя. Муж стал еще более респектабельным и раздражительным, а беременную жену мучат кошмары, в которых дом окружают волки. В самом конце муж говорит жене: «Поезжай, сделай милость, к своей умнице-маменьке, которая сумела сделать из тебя истеричку. Чудесное воспитание, нечего сказать!»
Тэффи никогда не возвращалась к «своей умнице-маменьке», но вполне вероятно, что ее муж отпускал саркастические замечания подобного рода. Наверняка мы знаем только то, что в 1898-м, возможно, уже на грани развода, Тэффи оставила мужа и троих детей и переехала в Петербург, чтобы стать профессиональной писательницей. Можно только предполагать, что этот разрыв, о котором она почти не говорила, был источником невыносимой боли и вины. Но было и другое, о чем она писала своей старшей дочери почти пятьдесят лет спустя. После слов о том, что она была плохой матерью, Тэффи поправляется: «По сути я была хорошей, но обстоятельства выжили меня из дома; если бы я осталась, я бы сгинула в нем».
Основа «Ведьмы», обрамленная этими историями о несчастной молодости, – шесть рассказов, в которых Тэффи отправляется еще дальше в прошлое, в свое детство. На сюжетном уровне это художественное переложение волынского фольклора (сегодня Волынская область относится к Западной Украине). В то же время это дань памяти младшей сестре Лене, с которой у Тэффи были очень близкие отношения. Лена умерла в 1919 году, и Тэффи очень тепло писала о ней в «Воспоминаниях», которые закончила незадолго до «Ведьмы». В обеих книгах они с Леной предстают практически единым целым.
Один из этих рассказов, «Который ходит», посвящен антисемитизму – и ксенофобии в более широком смысле. Тэффи умело передает и суеверный ужас соседей перед Мошкой, честным и работящим плотником-евреем, и восхищение, с которым они с Леной слушали непонятные разговоры взрослых о том, что Мошку много лет назад утащил черт. Часто главными героями рассказов становятся домашние слуги. Мать Тэффи или кто-то из старших братьев и сестер появляются время от времени, но куда более значимой фигурой предстает Няня.
Действие двух рассказов разворачивается в Москве и Петербурге. Более длинный из них, «Собака» начинается с идиллических воспоминаний рассказчицы Ляли, как она подростком проводила лето в загородной усадьбе в окружении друзей и поклонников. В те дни, с болью говорит она, она была беззаботной и веселой. Ее немного беспокоила только настойчивость скромного мальчика Толи, который однажды поклялся ей в вечной преданности, пообещал оставаться «псом навеки верным». Через несколько лет Ляля попадает в богемную компанию, часто бывает в «Бродячей собаке», легендарном петербургском кафе, где самые известные поэты читали свои стихи. Как-то случайно, едва ли не против своей воли, она увлекается вычурным даже для этой компании псевдопоэтом Гарри Эдверсом, который позднее станет работать на ЧК. В финале истории она призывает своего «верного пса» на помощь – с печальным исходом. Ляля заключает:
Вот вся целиком история, которую я хотела рассказать. Ничего в ней я не сочинила и не прибавила, и ничего не могу и не хочу объяснять. Но сама я, когда оборачиваюсь к прошлому, я вижу ясно все кольца событий и стержень, на который некая сила их нанизывала. Нанизала и сомкнула концы.
«Собака» убедительна на всех уровнях. Воспоминания о потерянном рае детства в начале рассказа созвучны работам друга Тэффи . Описание лихорадочной жизни предреволюционного Петербурга предвосхищает «Поэму без героя» Анны Ахматовой, написанную в 1940-1965. Подобно , Тэффи считает, что богемное пренебрежение моралью в каком-то смысле подготовило почву для жестокостей и двойных стандартов коммунистического режима. А развязка – отличный пример использования сверхъестественного не для украшения истории, а для большего психологизма. Неожиданное появление огромной собаки может быть простым совпадением, может быть физическим воплощением верного Толи, а может быть проявлением Толиного духа, помогающего Леле решиться на поступок, требующий нечеловеческой силы. Тэффи постаралась, чтобы ни одну из этих вероятностей нельзя было исключить. В отличие от «некой силы», которую упоминает ее рассказчица, она не стала смыкать концы своей истории.
В письме, которое мы цитировали выше, Тэффи пишет, о «Ведьме», что ее «очень хвалили Бунин, и – за ее художественные достоинства и за великолепный язык. Я, кстати, говоря, очень горжусь своим языком, хотя критики редко обращают на него внимание».
Гордость Тэффи вполне оправдана. Наряду с , Иваном Буниным,
и , ее можно отнести к русским писателям XX века, чей поэтический дар яснее всего выражался в прозе. Причем выделить какие-то выдающиеся особенности языка Тэффи довольно сложно. Она мастерски работает с повторениями, иногда делая какое-то слово лейтмотивом всего рассказа. К примеру, в «Диком вечере» прилагательное «дикий» используется для описания глаз лошади, ночи, человека и высокого неудобного сидения двуколки. В «Русалке» постоянно повторяется «мутный» – особенно часто в конце, в беспокойных видениях сестер, заболевших скарлатиной, когда одна из горничных то ли тонет, то ли превращается в русалку. Тэффи также отличает восприимчивость к особенностям речи разных социальных слоев – от волынских крестьян до русских эмигрантов в Париже. Недаром еще начинающий сатирик взял на заметку некоторые из ее особенно удачных неологизмов и окказионализмов. Однако же русская литература в 1920-е годы была богата талантами, и этих приемов явно недостаточно, чтобы считать Тэффи уникальной.
По-настоящему ее отличает легкость стиля. Тэффи даже в большей степени, чем , Анну Ахматову или других поэтов-акмеистов, можно назвать наследницей в том, что касается многообразия и текучести речи. Иногда она пишет короткими напряженными фразами, как , –но ее тон не становится от этого сухим и жестоким. Иногда она пишет сложными предложениями с причастными и деепричастными оборотами, как Бунин, – но ее длинные предложения не теряют сходства с разговорной речью. Некоторые из самых ненадежных ее рассказчиков изрекают сентенции такие же абсурдные, какие любил использовать Зощенко, – но у Зощенко они выглядят мастерской игрой слов, а у Тэффи как будто вырываются случайно. Эта (тщательно созданная) иллюзия естественности может быть одной из причин, по которой критики так мало внимания уделяли стилю Тэффи.
Многие из ее великих современников, тем не менее, отмечали этот ее талант: Зощенко внимательно изучал ее работы, Бунин ею восхищался, использовал ее статьи о Гражданской войне, работая над «Белой гвардией» . называл ее «уникальным феноменом русской литературы, истинным чудом, которым читатели будут восхищаться и сто лет спустя, одновременно сквозь смех и сквозь слезы».
Последние рассказы в этом издании – «Баба-Яга» и «Воля» были опубликованы за полгода до смерти Тэффи в сборнике «Земная радуга», в каком-то смысле, самом русском из всего, что она написала. Баба-Яга – архетипичный сказочный персонаж, а слово «воля» выражает то, как Тэффи понимала своеобычное русское проявление безграничной эмоциональной свободы. Оба рассказа заканчиваются из самой души идущими криками. Баба-Яга, запертая зимой в своей избушке, тоскует по свободе и простору и кричит: «Ску-у-учно». А в последних строках «Воли» стареющая Тэффи вспоминает, как в молодости весной на заре, взмахивая руками, кричала: «Воль-но-о-о!» – в ответ песне мальчика-пастушка на другом берегу реки. Припев песни: «Вольно, мальчик, на воле, // На воле, мальчик, на своей!» – описан как «истошный, надрывно радостный, с каким-то прямо собачьим визгом, потому что уж слишком из души».
Стиль Тэффи действительно отличается изяществом, но весьма вероятно, что за это изящество призвано скрывать невыносимую боль. Уж очень много в ее рассказах таких из самой души идущих криков. Иные из них становятся почти заразными – такие отчаянные и мучительные, что те, кто их слышат, не могут не закричать в ответ. В выкрике ямщика-эпилептика в «Оборотне», например, звучит «что-то такое страшное, никогда не слыханное», что рассказчица тоже кричит, вскакивает с места и чуть не падает из саней. А рассказчица в «Ведьме» описывает, как в отдалении «плачет цесарка, у которой зарезали самца» и продолжает:
Рассказать мне вам трудно, но такой безысходной тоски, как этот плач над мертвым городком, в этой безысходной глухой тишине вынести человеческой душе невозможно.
Помню – пришла я домой и говорю мужу:
– Теперь я понимаю, как люди вешаются.
А он вскрикнул и схватился за голову.
На последних страницах «Книги Июнь» героиня Катя кричит в ужасе: «Она сама не понимала, отчего кричит. Какой-то клубок давил горло и заставлял кричать с визгом, с хрипом все это последнее слово: Гриша!». А два самых тонких рассказа Тэффи оканчиваются еще более дикими криками. Героиня «Соловков» забывается в крике на службе в монастырской церкви: «Все равно было что кричать. Первым звуком вырвалось: "Да-а". Так и наладилось, и только бы не остановиться, только бы сильнее, крепче изойти в крик еще, еще, вот еще... Ах, не помешали бы, дали бы дотянуть... Так трудно дотянуть, сил не хватит...»
Такой же невыразимой болью наполнены последние страницы автобиографических «Воспоминаний» – рассказа об окончательном, невозвратном отъезде из России. Летом 1919 года в Новороссийске Тэффи садится на пароход, направляющийся в Стамбул:
И все молчат. Только с нижней палубы доносится женский плач, упорный, долгий, с причитаниями.
Когда это слышала я такой плач? Да, помню. В первый год войны. Ехала вдоль улицы на извозчике седая старуха. Шляпа сбилась на затылок, обтянулись желтые щеки, беззубый черный рот открыт, кричит бесслезным плачем – «а-а-а!». А извозчик – верно, смущен, что везет такого седока «безобразного», – понукает, хлещет лошаденку…
Да, голубчик, не разглядел, видно, кого садишь? Теперь вези. Страшный, черный, бесслезный плач. Последний. По всей России, по всей России… Вези!..
Эти крики и стоны весьма различны: взвизг поющего мальчика из «Воли» – «надрывно радостный», а плач седой старухи из «Воспоминаний» полон отчаяния, но в главном они даже слишком схожи – в том, как они болезненно искренни, как идут «слишком из души». Как будто с этих героев сняли кожу, слой за слоем, и на всеобщее обозрение предстало то, что должно быть надежно скрыто.
Изящество Тэффи становится еще более драгоценным, когда мы понимаем, что для нее это одновременно и защитный покров, и последняя опора, то, что помогает сохранить почву под ногами. Быть может, именно оно помогало ей, в отличие от многих современников, сохранять разум в нескончаемой череде катастроф: Первая мировая, Гражданская война, политические распри в эмигрантском сообществе, немецкая оккупация во время Второй Мировой. Если Тэффи и называла себя ведьмой, если и сравнивала в конце жизни с Бабой-Ягой, то, весьма вероятно, только потому, что надеялась этим как-то отвлечь, заговорить темноту внутри и снаружи, не позволить ей вырваться и затопить весь мир.
Роберт Чэндлер (Robert Chandler)




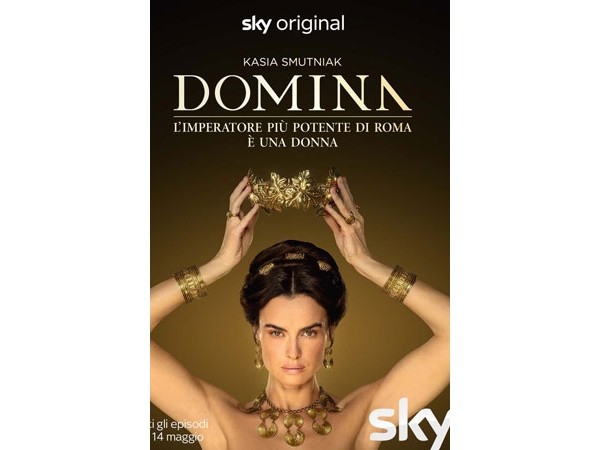

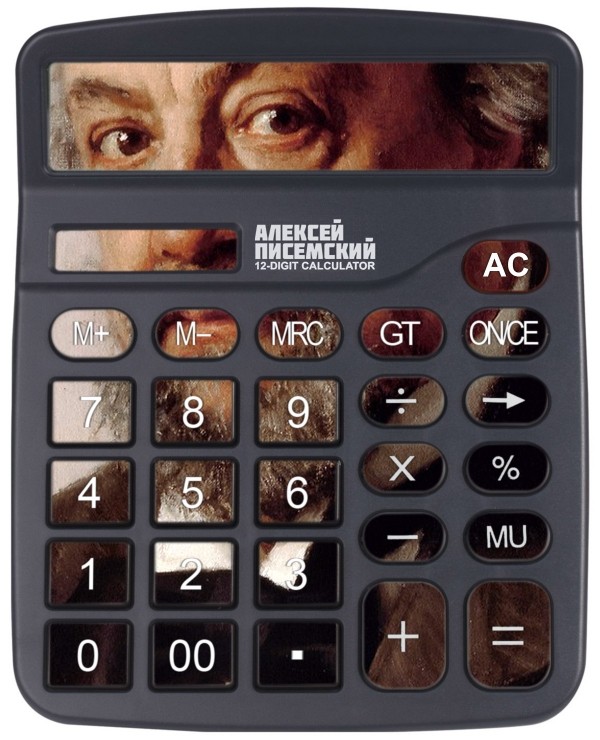
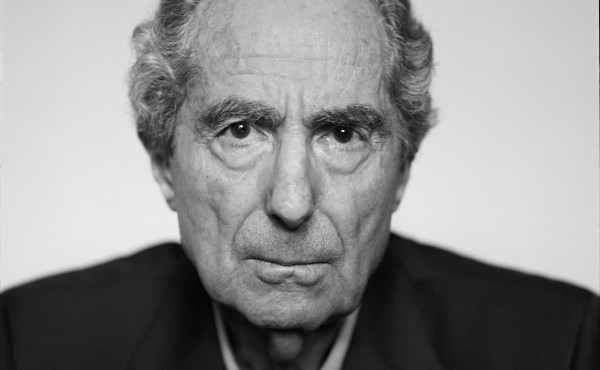





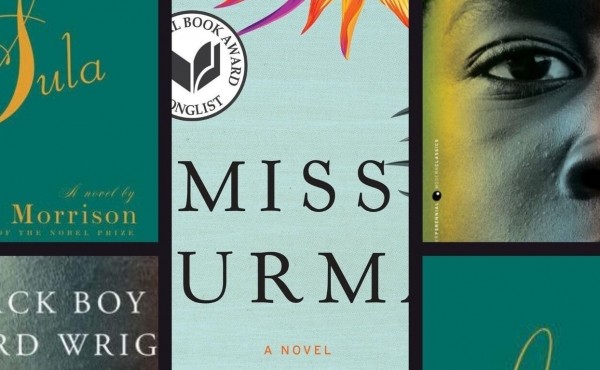
Комментарии 1