100 главных русских книг XXI века {ПОЛКА 2020} — 100 книг
100 главных русских книг XXI века {ПОЛКА 2020}
С 2000 года прошло уже 20 лет — а это, между прочим, пятая часть столетия. Самое время подвести кое-какие итоги. «Полка» устроила самый масштабный опрос в своей истории, чтобы определить 100 главных русских книг XXI века: романы, повести, сборники рассказов, нон-фикшн. Более ста экспертов приняли участие в составлении списка: в него вошли знаменитые книги, получившие премии, и не самые известные тексты, оказавшиеся тем не менее важными для движения литературы. Перед вами 100 главных новых книг о прошлом, настоящем, будущем, красоте и неприглядности, жизни и смерти, языке и памяти — и о многом другом.
Год издания: 2016
Серия: Sadwave
Устная история московского рок-андеграунда 1990-х — вернее, локального его ответвления, сформировавшегося вокруг группы «Соломенные еноты». Журналист Феликс Сандалов (ныне главный редактор издательства Individuum) опросил действующих лиц и очевидцев этой локальной культуры, родившейся где-то между Коньковым и Тёплым Станом из духа советской подростковой литературы и сибирского панка. Перестроечные книжные мальчики, оказавшись в новой жёсткой реальности, восприняли самодельный панк-рок, пришедший из Омска и Тюмени, буквально как инструкцию по выживанию. Они создали для себя недолговечную вселенную со своей радикальной этикой, отрицающей всякий успех и благополучие, с невозможным расхристанным саундом и не лезущим ни в какие ворота вокалом, с этическим императивом противостояния всему мелкому, продажному и пошлому. Точно так же, как в песнях «Енотов» за шеренгами «дряни с пластмассовыми глазами» встаёт невидимый град Китеж, в книге Сандалова из хроники одной маргинальной компании вырастает история огромной потерянной страны, заблудившейся в 1990-е среди ларьков и реклам и пытавшейся сохранить свою тайну в панельных клетках спальных районов. — Ю. С.
Kseniya_Ustinova 29 декабря 2020 г., 03:50
Год издания: 2019
Серия: Роман поколения
Прозу Некрасовой в критических отзывах часто окружает ореол имён: называют и Хармса, и Мамлеева, и Платонова — любимого писателя самой Некрасовой. Но её проза куда больше возможных референтных пересечений. Смешивая фольклорные мотивы с узнаваемыми реалиями России десятых, Некрасова точно фиксирует конфликт между традиционными представлениями о семье и браке и новыми этическими нормами эпохи #metoo и #янебоюсьсказать: неслучайно дебютный роман писательницы «Калечина-Малечина» ставят на сцене, а ключевой для сборника рассказ «Лакшми» был экранизирован. А фантасмагорическая повесть «Несчастливая Москва», в которой катастрофа приходит и уходит одинаково внезапно, очень точно предвосхитила атмосферу пандемийного 2020-го. — С. Л.
Kseniya_Ustinova 29 декабря 2020 г., 03:51
Год издания: 2020
Серия: Проза Андрея Рубанова
Банкир Андрей Рубанов с детства мечтал стать популярным писателем. В поисках материала он пришёл к идее «нырнуть в зарешеченное заведение ненадолго… чтобы ознакомиться и понять саму тюрьму и преступную идею» — и потом использовать этот опыт, сочиняя свой шедевр. Российский предприниматель, скандально обогатившийся в 1990-е, всегда держит в уме такую перспективу, и вот главный герой попадает в «Лефортово», где с жадностью антрополога принимается фиксировать подробности местного быта и собственное преображение. Литературную генеалогию писателей-реалистов, которые дебютировали в начале 2000-х, обычно возводят к Лимонову. Аскетичный слог, функциональный синтаксис, кинематографичный монтаж, самурайская интонация — в «Сажайте, и вырастет» различимы следы внимательного чтения лимоновской прозы тюремного периода. Однако если Лимонов пережил в заключении эпифанию, прозрение отчётливо религиозного толка, то оказавшийся на зоне Рубанов упрямо материалистичен. В его изложении тюрьма — место, где можно закалить характер и освоить навыки, с которыми потом будет проще на свободе; вообще, это довольно утешительное, чтобы не сказать мотивирующее, чтение, такая селф-хелп-беллетристика. — И. К.
Kseniya_Ustinova 29 декабря 2020 г., 03:51
Год издания: 2013
Серия: Улица Чехова
Один из самых заметных литературных дебютов начала 2010-х: Антон Понизовский совместил метод вербатим, знакомый читателям по книгам Светланы Алексиевич и работе «Театр.doc», с художественным диалогом о судьбах Родины. По сюжету несколько человек, застрявших в гостинице на швейцарском курорте, слушают и обсуждают аудиозаписи — яркие и тяжёлые рассказы обычных людей о своей жизни (действительно записанные Понизовским на Москворецком рынке и в одинцовской медсанчасти). Главный герой — собиратель этих записей, вечный студент Фёдор, «молодой человек с мягкой русой бородкой», конечно напоминающий князя Мышкина (имя и книги Достоевского возникают в книге Понизовского постоянно). Вокруг записей разворачиваются жаркие споры, разыгрываемые как по нотам: европеизированный бизнесмен обнаруживает отчаянный цинизм при разговорах о «народе-богоносце», Фёдор этот народ с не меньшим отчаянием защищает. Разрешить эти споры может вмешательство любви в лице девушки Лёли. — Л. О.
Kseniya_Ustinova 29 декабря 2020 г., 03:51
Год издания: 2017
Как заметил писатель Алексей Поляринов, «любой писатель сегодня должен быть антропологом». Сказать, что Григоренко идет по стопам Фрэзера и Элиаде, было бы преувеличением, однако методы схожи: красноярский писатель бережно описывает мир коренных народов Севера и рассказывает историю охотника Мэбэта и его посмертного хождения по мукам. Это не схематичный пересказ ненецкой мифологии, а скорее тщательная её художественная реконструкция. «Мэбэт» — редкий эксперимент в современной русской прозе: Григоренко вступает на зыбкую почву постколониального мышления и пробует понять мир Другого, не слишком его экзотизируя. А ещё это апология сложности в противовес упрощённому мышлению новостных лент. — С. Л.
Kseniya_Ustinova 29 декабря 2020 г., 03:51
Год издания: 2013
Серия: Уроки русского
На сюжетном уровне эпистолярный роман Николая Байтова — это история близких и не до конца прояснённых отношений двух советских женщин в 1930–40-х годах. Киевлянка Мура, заведующая детским садом, и москвичка Ксеня, интеллигентка «из бывших», после курортного знакомства на шестнадцать лет становятся ближайшими подругами, хотя почти не встречаются. Автор мистифицирует читателя, представляя своё сочинение как реальные письма Муры, которые он нашёл на чердаке и в которых увидел свидетельство «одной из величайших любовей XX века». Но в первую очередь «Письма Муры» — проза поэта, неправдоподобно скрупулёзная стилизация, историко-психологическая реконструкция. Неумеренные восторги автора своей героиней контрастируют с её суконным и одновременно экзальтированным слогом: «Всё реже посещают такие бодрые ощущения, всё меньше чувствую эту мощную песнь жизни — объясняю уходящими годами». Это книга о языке, определяющем сознание, о слове, которое проявляется, сталкиваясь с чужим словом, если угодно — о тоске «социалистического нутра» по мировой культуре, носительницей которой выступает закадровая Мурина подруга. — В. Б.
Kseniya_Ustinova 29 декабря 2020 г., 03:52
Год издания: 2012
Серия: Самое время!
2000-е и 2010-е — время интенсивного художественного осмысления блокады Ленинграда, одной из главных русских катастроф XX века, и «Ленинград» Вишневецкого — узловое произведение в этом «блокадном повороте». Частью поэтическое, частью прозаическое, частью документальное произведение чередует дневниковые записи героев, повествование от третьего лица, военные сводки и молитвы: эта смена языков и ракурсов резко отличается от официальных советских попыток приблизиться к пониманию блокады, зато резонирует с записками Лидии Гинзбург. Сюжетные линии героев в «Ленинграде» обрываются (как это происходило с жизнями тысяч реальных ленинградцев), их разговоры о голоде, искусстве, истории и совести неотличимы от галлюцинаторных — и это тоже выглядит у Вишневецкого совершенно реалистичным. Повесть заканчивается попыткой главного героя, композитора Глеба Альфани, создать небывалую музыку, показывающую страдание его города: «Музыка уходит в подземное, а оно разрастается душным пожаром, заслоняя видимый свет». — Л. О.
Kseniya_Ustinova 29 декабря 2020 г., 03:52
Год издания: 2017
Вторая часть двухтомника одного из лучших российских публицистов, который в 1990-е создал стиль «Коммерсанта», в 2000-е собрал литературную дрим-тим в журнале «Русская жизнь», а в 2010-е избрал своей трибуной для свободного высказывания фейсбук. «Книжка-подушка» и есть сборник фейсбучных высказываний Тимофеевского по разным поводам: Украина, Трамп, очередной сиюминутный срач, любимый автором вечный Рим. В последние годы литературу часто пытались скрестить с языком соцсетей, стилизовав одно под другое или использовав одно в другом; сборник Тимофеевского показывает, что в разведении гибридных монстров нет нужды, а живая словесность дышит где хочет — хотя бы и в фейсбуке. О чём бы и сколь бы кратко ни писал Тимофеевский, это всегда образец изящества формы и глубины содержания; его преждевременный внезапный уход остаётся одной из самых тяжёлых потерь и без того страшного 2020-го. — Ю. С.
Kseniya_Ustinova 29 декабря 2020 г., 03:52
Комментарии
Мое мнение, наверное, не популярно, но исходя из того, что я читала у Рубиной - это в канон не войдет. Все же, думаю, подбирались тексты важные по литературным или смысловым значениям, у Рубиной, лично я, не вижу ни того, не другого. Ее литература скорее утешительная, успокоительная, терапевтическая. Только через сто лет этого эффекта она уже не даст.
Я, собственно, за Рубины особенно не болею) да и из этого списка читала только Идиатуллина (понравился) и Сорокина (категорически не понравился, хоть темы и интересные).
И огорчилась, что не увидела в списке Поляринова — большое упущение, как мне кажется.
А вообще, большинство из этих ''культовых писателей'' на одно лицо: юзают безопасные темы — семья, война, душа, аллюзии на исторические события. Про современность почти ни у кого нет, редко кто отваживается писать про насущные проблемы экономики, политики, социльной сферы.
ро современность почти ни у кого нет, редко кто отваживается писать про насущные проблемы экономики, политики, социльной сферы.
Ну не скажи. А как же Букша? Евгения Некрасова? старобинец? Сенчин?
И это при том, что я только 25 книг из списка читала. И не знаю, что там в остальных)
Они — это лишь малая часть. И все равно стараются держаться в безопасных водах. В России, да и у нас в Беларуси, если хочешь печататься, то нужно держаться в определённых идеологических рамках. И если и высказываться, то тоже в рамках дозволенного.
Я не критикую современных авторов и не призываю всех их на баррикады, просто хочется какого-то взрыва в литературе. Вызова.
Солженицын в своё время написал Архипелаг и он до сих пор актуален: доносы, лжесвидетельства, взятки — все это до сих пор осталось в системе. У современных писателей нет такой силы духа, к сожалению...
Это и зарубежной литературы касается.
Если этих книг нет у меня в прочитанном, это не значит, что я с ними не знакома) Я работаю в книжном и по роду деятельности изучаю разную литературу)
При этом, я ничего не говорю про качество данных романов, а только про ''беззубость'' самих авторов и их нежелание выходить из зоны комфорта!
Ну, и про то, что на Полке редко появляется что-то стоящее)
Поляков великолепный писатель, еще со времён "ЧП районного масштаба", но... какую галиматью ежегодно не награждают литературными премиями там-сям, его даже в долгом листе нет. Видимо, вне (около)литературных тусовок обитает.
Изумительная книга - лучше доброй половины представленных - "Гумилёв сын Гумилёва" Сергея Белякова.
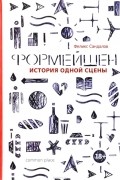
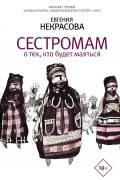
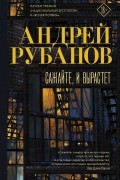
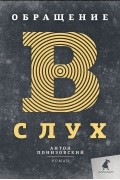
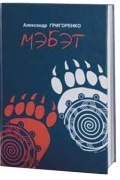
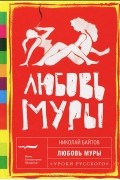


Тоже читала эту статью. На сколько эти авторы популярны в России? У нас в Беларуси из них активно читают Быкова, Водолазкина и Улицкую.
Интересно, почему Рубина не попала в этот список... Слишком попсовая?)