16 октября 2018 г. 22:13
3K
5 Братишка, я тебе покушать принёс
В Догвилле жили хорошие честные люди, которые любили свой город.
С момента появления рассказа прошло много времени, за которое лишь на Лайвлибе накопилось свыше ста рецензий, в которых наверняка уже кто-то написал то, о чем я напишу далее, но на самом деле меня это не волнует, потому что увидев в основном отрицательные рецензии, читая которые даже по первым предложениям я уже понимаю, что загрущу от того, насколько художественный мир рассказа близок к реальному миру, о чём говорят сами рецензии и объединяющая их интонация агрессивной претензии к автору.
Для меня стало удивительным, как сильно первый рассказ из второго сборника рассказов Владимира Сорокина отличается от первого - «Первого субботника» . Его главное отличие заключается в том, что в нём автор продолжает развитие сюжета даже после того, как прозвенела сайлент-хилловская сирена. В "Первом субботнике" тоже присутствуют рассказы, где сирена "включается" не в самом конце, но они в свою очередь отличаются от "Насти" тем, что в них практически нет авторского комментария, будь то мораль, произнесённая репликой одного из героев, или особые нотки в текстовом полотне, по которым читатель может понять позицию автора - почти все рассказы "Первого субботника" своим молчанием похожи на картины, которые оставляют за читателем право их истолкования. По технике написания рассказы из первого сборника можно разделить на три группы:
- рассказы, в которых большая часть объёма служит вступлением к сайлент-хилловской сирене;
- в которых сирена заменяется бескомпромиссным реализмом/натурализмом, проявляющимся в шокирующей жестокости персонажей;
- те, которые представляют собой игру писателя со словом - своеобразные филологические виньетки, которые потом переросли в «Сердца четырех» .
Но ни один из рассказов "Первого субботника" не произвел на меня такого сильного впечатления, как произвёл рассказ "Настя", потому что в них присутствовала ирония, раблезианское шутовство, скоморошничество, "а вот посмотри ещё как я умею", что сильно снижало их общую "мощность": например, «Шатуны» Юрия Мамлеева похожи на рассказы сборника, но в них нет ни иронии, ни шутки, из-за чего их не просто читать, но зато они ярче запоминаются, чем рассказы "Первого субботника". Но я думаю, что использование в них юмора позволило затем появиться тому, что мы имеем сейчас, так как если бы Сорокин сразу писал в таком бескомпромиссном стиле, как он написал "Настю", то с дальнейшей печатью у него были бы большие проблемы из-за цензуры даже на уровне редакции. Рассказ "Настя" при всей своей жестокости, которая сопровождается кристально прозрачной для вдумчивого читателя общей идеей, на сегодняшний день интерпретируется мною как предельно честный, сбалансированный художественный манифест, написанный в форме рассказа ( «Норма» не подходит из-за своего большого объема), из которого заинтересованный читатель легко может выцепить то, что хочет ему сказать автор и для чего это сделано, но лишь с той оговоркой, что в самом конце рассказа есть одна сцена, которая может говорить о том, что всё написанное до этого и рассказ в целом являет собою лишь троллинг как и ханжей, так и любителей поискать скрытые смыслы в художественных произведениях, за что я так люблю и высоко ценю творчество Владимира Сорокина.
Сейчас я приведу свою интерпретацию рассказа с позиции читателя, которому открылся "истинный смысл" рассказа.
В который раз Сорокин с первых строк демонстрирует читателю свою технику стилистической мимикрии под стиль русской классики: начиная со сцены утреннего пробуждения Насти в её день рождения и её записей в дневнике мы будто читаем "школьных" русских классиков, окунаясь в привычное уютное семантическое поле, в котором комфортно и приятно находиться. Таким методом выразительности Сорокин владеет превосходно, и не счесть сколько было у меня случаев "узнаваний" во время чтения: это и описание окружающей среды, в которой происходят события, это и точная передача прямой речи ("как будто на диктофон записывал") с использованием недомолвок (когда персонаж недоговаривает фразу или кажется, что останавливается на полуслове) - вот что работает на завлечение читателя в процессы, происходящие в книге. Такой метод используют психологи, когда просят клиента поудобнее усесться в кресле и представить себя в тепле и расслабиться. Автору это нужно для того, чтобы сделать из читателя податливую глину, у которой усыпляется самый главный противник автора - инстинкт читательского самосохранения, который не позволяет проникать в его поле зрения ничему новому, равно тому, что может как-то навредить его покою и вывести из духовного равновесия. Но полностью победить его невозможно, потому что стоит прозвучать малейшей нотке опасности, как он начнёт работать в граничном режиме. Во многом момент включения этого режима зависит от самого читателя - это то, что мы называем культурой чтения, которая превращает испуганного школьника в вдумчивого читателя, получающего от процесса чтения удовольствие и владеющим этим процессом так, как ему нужно. Развитие такой культуры чтения не подразумевает приобретение особенных навыков, позволяющих уложить любой кирпич из наследия мировой литературы на лопатки, просто образованный читатель понимает, как с этим кирпичом играть, поэтому на его впечатления от чтения в меньшей степени влияет базовый инстинкт сохранения личной безопасности (от чужеродной информации в том числе). Именно отсутствие культуры чтения не дает читать огромному числу людей сложные художественные книги, так как они просто не умеют играть, ведь навыков игры у них нет.
"Но для чего меня сделали аморфной массой" - думает читатель? Ведь не ради утреннего рассвета игра ведется. Скорее всего, Настю ждёт знакомство с женихом или иное мероприятие, связанное с её шестнадцатилетнем. Вот тут и прозвучит первая нотка неопределённой формы надвигающегося, которая начинает пробуждать спящий инстинкт пока лишь одиночным громким звуком, раздавшимся под окнами, вынудившим перевернуться на другой бок и подправить подушку под головой: сначала это загаженная голубями статуя, а затем сцена наказания поркой розгами мальчика-прислуги, которую случайно увидела Настя.
Дальше всё случается довольно быстро, и во время сцены приготовления Насти к чему-то, ради чего она должна будет раздеться, читатель теперь уже нервно подходит к окну и смотрит, что за баран шумит под окнами и не даёт поспать.
Ну и всё, на этом месте (которое лишь 1/3 от общего объёма) некоторые начинают писать о том, что сожгли бы книги Сорокина и его заодно, а дальнейшая информация не будет воспринята читателем, о "скрытых смыслах" и речи нет вообще. В этот момент упоминания в разговорах героев философов срабатывает словно фанатская дудка над ухом - "ты чё, б.., совсем о...л - у тебя тут каннибализм, а ты философию мне втираешь?!!" (безобидное упоминание философов разозлит даже больше, чем поедание Насти, хотя в них содержится много ответов к пониманию рассказа).
"А ты что, кайф ловил от процесса каннибализма?". Нет, мне тоже было неприятно, но неприятно и грустно мне было не только от поедания Насти, а от того, что такие обеды - это неотъемлемая часть нашей жизни, потому что сколько таких "Насть" уже успели отдать и сколько ещё отдадут на пользование и пожирание те, кто взрастили её как свинью на убой. В очевидной интерпретации Настя - это собирательный образ молодости и детства, который пока юн (если он воспитывается в благополучных условиях), остаётся в вымышленном мире, добром и уютном, а как только он подрастёт, его сожрёт окружающая среда, ведь на самом деле взрослый мир мало напрямую связан с добротой, миловидными зверятами и песенками. И неспроста Сорокин помещает действие рассказа в конец позапрошлого века, когда казалось, что будущее будет лучше и новый век окажется веком "Нового человека" - сверхчеловека. Мы же теперь знаем, чем он оказался на самом деле. За картонными декорациями "Насти", словно позаимствованными из фильма "Неоконченная пьеса для механического пианино", скрываются извращения и лицемерие, жестокость и первобытная дикость. Впервые они проявились в сцене порки розгами мальчика, затем вновь проявляются в жестоком обращении с мамой Насти, чья участь мало отличается от того, что стало с её дочкой: ею пользуются как вещью, а всех это устраивает, даже ту девочку, которую саму в скором времени ожидает участь Насти.
"А ты что, кайф ловил от процесса каннибализма?". Нет, мне тоже было неприятно, но неприятно и грустно мне было не только от поедания Насти, а от того, что такие обеды - это неотъемлемая часть нашей жизни, потому что сколько таких "Насть" уже успели отдать и сколько ещё отдадут на пользование и пожирание те, кто взрастили её как свинью на убой. В очевидной интерпретации Настя - это собирательный образ молодости и детства, который пока юн (если он воспитывается в благополучных условиях), остаётся в вымышленном мире, добром и уютном, а как только он подрастёт, его сожрёт окружающая среда, ведь на самом деле взрослый мир мало напрямую связан с добротой, миловидными зверятами и песенками. И неспроста Сорокин помещает действие рассказа в конец позапрошлого века, когда казалось, что будущее будет лучше и новый век окажется веком "Нового человека" - сверхчеловека. Мы же теперь знаем, чем он оказался на самом деле. За картонными декорациями "Насти", словно позаимствованными из фильма "Неоконченная пьеса для механического пианино", скрываются извращения и лицемерие, жестокость и первобытная дикость. Впервые они проявились в сцене порки розгами мальчика, затем вновь проявляются в жестоком обращении с мамой Насти, чья участь мало отличается от того, что стало с её дочкой: ею пользуются как вещью, а всех это устраивает, даже ту девочку, которую саму в скором времени ожидает участь Насти.
Грядущий век (чьё наступление готовы встретить герои рассказа) подарил нам модернизм, который научил нас оборачивать в красивую словесную обертку сексуальные извращения, психозы и прочие "прелести", мифотворчество стало более изысканным и утончённым, а описывать моральные императивы все ещё казалось крутым делом. Затем была Война, как реакция на неё появился постмодернизм, но вместе с ним были попытки возвращения к старой форме повествования с описанием природы, внутренней борьбой лирических героев с их "плохими" частями, победой светлого и доброго. Но дело в том, что сами авторы мало верили в то, что вся эта сладкая вата действительно может существовать в реальности (особенно забавно наблюдать за тем, как меняется стиль авторов и что вылезло наружу, когда была упразднена литературная цензура). Тогда вместо открытого насилия мы имели тихое согласие с тем, что может происходить буквально за стеной наших квартир, от чего становилось только более тошно и противнее, поэтому и появились такие авторы, как Владимир Сорокин. До него, например, Жан-Люк Годар в своих фильмах попробовал говорить напрямую со зрителем, без гиперболы и "шок контента", но оказалось, что такой способ общения со зрителем не шибко силен, так как зрители быстро уставали от надоедливых и неприятных для них разговоров, им по-прежнему хотелось сказки. Язык прустовской рефлексии тоже оказался тяжелым для массового понимания. Тогда стали появляться художники, которые были готовы доводить языки искусств до крайностей, тем самым пробуя их на прочность. Оказалось, что в условиях развития информационных технологий и увеличения плотности информационного потока медленная модернистская рефлексия проигрывает порой резкой и жесткой, часто заходящей за рамки установленного морального поля (негласного, но признанного обществом градуса того, что в нём разрешается, жертвуя при этом понятностью), что часто приводило и по-прежнему приводит к ярому гневу масс. Но одновременно с этим оказалось, что такой язык искусств часто лучше и точнее отражает реальную действительность ("требуются более жесткие меры для достижения целей"), а "Настя" - это один из первых примеров того, как можно доносить какую-то морально-духовную интенцию в новых реалиях. На смену Годару пришли Тарантино и Ларс фон Триер, на смену Леониду Леонову, Виктору Астафьеву - Владимир Сорокин и Виктор Пелевин, на смену поп-року 80-ых пришел гранж и ноу-вейв, рэп. Поэтому, читатель, удивляться "Насте" Сорокина в 2018 году уже поздновато, ведь реальность давно проявляет себя намного страшнее сорокинских рассказов. Возможно "Настей" Сорокин хотел сказать о том, что лицемерное ханжество будет пострашнее каннибализма, ведь оно закрывает глаза на причины его появления.
Но самое интересное в этом рассказе для меня является не только лишь возможность противоположных интерпретаций (либо как "трэш, написанный больным человеком", либо как художественный манифест), а то, что даже после его прочтения не становится яснее то, что не является ли рассказ стёбом над обоими лагерями читателей. "А что же нам делать тогда?" - спросите вы меня. Я думаю, что нам остаётся лишь решать самим, думать своей головой, продолжая читать то, что напишет Владимир Сорокин, играя вместе с ним в игру писателя не "с читателем", а "и читателя".

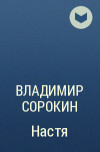

Комментариев пока нет — ваш может стать первым
Поделитесь мнением с другими читателями!