Больше рецензий
11 июля 2020 г. 15:00
2K
5 Ад Данте
Рецензия
Цветаева вспоминала о своём друге и поэте Волошине:
Маленький ребёнок, оставшийся с мамой в большом и грозном мире.. Вот, он гуляет с ней на природе и предлагает: мама, станьте, пожалуйста, носом в угол и не оборачивайтесь.
- Зачем?
- Сюрприз. Когда скажу, обернётесь.
Мама стоит лицом к стене, спиной, к миру и сыну: ты скоро? Мне надоело..
- Сейчас, мама! Ещё минутка! Две! Всё… можно!
Мама оборачивается: плывущая улыбкой и толщиной трёхлетняя упоительная морда.
- А где же.. сюрприз?
- А я ( задохновение восторга), к колодцу подходил. Долго глядел.. ничего не увидел.
- Ты просто гадкий непослушный мальчик! А где же сюрприз?
- А что я туда не упал..
Это и обо мне, заглянувшем в лиственный и тёмный колодец книги, чуточку о каждом из нас и о мальчике в книге.
Всегда с трепетом знакомлюсь с книгой, написанной женщиной ( как и с новым автором из Серебряного века или из Франции: женщина.. как гражданка Серебряного века в лунной стране, затерявшейся меж Парижем и Питером).
Размаянная, низкая синева неба. Читать особо не хочется…
Сказал своим любимым авторам на полочке: отвернитесь! Сюрприз хочу сделать.
Затихли, милые. Стоят, отвернувшись лицом к цветам на обоях и к музыке за стеной.
Как в странном сне, стоят плечом к плечу, в тесной теплоте блёстких корешков: Платонов, Набоков, Достоевский, Цветаева, Саша Соколов, Фолкнер..
Мне кажется, что Набоков что-то шепнул Платонову и его серые плечики подрагивают от смеха.
Вот улыбнулись лазурные плечики Цветаевой.
Со стороны может показаться, что Набоков в стене разглядел дырочку и подсматривает за соседкой моей, чуточку безумной.
Лето, скука, жара… какие-то загорелые птицы за окном, тоже, чуточку безумные.
Откладываю книгу О'Коннор и иду к ним: там наверно что-то очень интересное.
Затихли. Не пускают меня посмотреть.
Беру за плечо Набокова, протискиваюсь с довольно глупым выражением на лице.
Ничего нет: ни дырки, ни соседки — одна повитель музыки.
Фолкнер смеётся и даже держится за живот. А может ему просто плохо, не знаю.
Беру его за плечо, протискиваюсь — ничего. За стеной — смех соседки.
Мне обидно, чувствую себя дурачком.
Может, это волшебная дырочка, как горошина у шулеров, играющих в колпачки?
Поднимешь колпачок, а там ничего нет.
В этом глупом и чуточку обиженном состоянии ребёнка возвращаюсь к дивану и открываю книгу: с полочки слышен добрый смех… нет, хохот Достоевского.
Закрываю уши. Книга, на коленях, как раненая птица.
Жара.. размаянная синева протекла даже в комнату. Улыбчиво качнулись цветы на обоях…
Смотрю на ноги свои — их нет. Вместо ног — кукурузные поля, какой-то безумный старик и не менее безумный мальчик.
Вместо левой ноги — старик. Вместо правой — мальчик. И.. кукурузное поле. Жутко.
На полочке Набоков приобнял Достоевского и что-то шепчет ему: Достоевский нет-нет, да обернётся на меня, грустно улыбаясь.
Читаю книгу и пропадаю в ней с головой, как в колодце.
Мои друзья на полке оборачиваются, чуточку встревоженные.
Оборачивается даже неулыбчивый и вечный бирюк на полке — пепельный Кафка.
В комнате никого нет. Сплошные заросли кукурузы и чья-то бледная рука, как птица, захлёбывается в её солнечной и густой теплоте, не может выбраться.
Это моя жена меня ищет. А меня нет.
Ну, Достоевский, Набоков, что вы скажете ей? Чем утешите? Не поверит она вам, особенно вам, Набоков!
Она ночью сойдёт с ума, лёжа в этой колышущейся солнцем бессоннице кукурузы, заполонившей уже всю квартиру.
Я в книге. Я не читаю а живу ею. И что же я вижу?
До боли знакомые, милые образы Платонова, Набокова, Достоевского, Фолкнера и Саши Соколова!
Безумный старик, одержимый богом, как демон-ворон из сказки, похищает младенца у своего племянника, учителя, и, словно Лермонтовский ангел, несущий «душу младую для мира печали и слёз», уносит от мира и людей.
Как в сказке, в глухом и зачарованном царстве, умирает демон, прямо за столом, и мальчик робко продолжает существовать и даже есть с ним за одним столом, есть с мертвецом, словно в каком-то апокрифическом рассказе Платонова: есть тело и кровь Христову на этой абсурдной и босховой Тайной вечере, опьяняясь ею, дабы забыть весь этот бред.
Жутко сознавать.. что твой дедушка — демон. Совсем ещё недавно он лежал в гробу, примеряя его как одежду, и говорил из него, опять же, как в рассказах Платонова: из смерти говорил, как звезда, упавшая голубой спиной отражения — в колодец.
И были страсти Христовы на новый лад: Христа, учителя, явившегося спасти ребёнка, расстреливают в упор из дробовика: сначала, ногу пригвождают пулей, потом…
Или мне всё это показалось в жару?
Но не всё так трагично, я снова сгустил краски: повествование оттеняется, как тетива, замечательным юмором, и мальчик не такой уж безумный, милый даже..
Стоп. Продолжаю рецензию уже дочитав роман. Нет, мальчик всё же безумный до ужаса, а юмор...так порой идёшь ночью в незнакомом и дремучем месте, и улыбаешься нервно, песенку даже насвистываешь, подбадривая себя, что не такое уж это и жуткое место.
Мальчик дремлет за столом. Ему должно быть снится, как солнце расстелило детский смех в школьном коридоре, где он ни разу не был, и он бежит по нему, как по дорожке в рай, вместе с другими детьми: их руки, как пушистые, улыбчивые пылинки мерцают в луче коридора.
Я улыбаюсь спящему ребёнку и вспоминаю чудесный роман Саши Соколова «Школа для дураков», о мальчике с раздвоением личности, который ходил в школу со своим братом-голосом, дружил там… с умершим учителем и не менее умершей девочкой.
И если Соколов писал свой роман в Волжской глуши у реки, когда его жена была беременна и ждала новую жизнь, то писательница Фланнери, писала свой роман в глуши американского юга, умирая.
Ей поставили диагноз — волчанка, от которого умер её отец, когда она была подростком, и ей врачи дали 4 года: прожила она ещё 14, скончавшись в 39 лет.
Удивительная осень Эдема затворничества, почти как у Эмили Дикинсон: уехала в глушь с богом в сердце не умирать, а творить новые жизни.
Грустный образ девушки на костылях с пронзительными глазами Сартра, словно хромающий ангел опирается на костыли своих крыльев…
У ней никогда не было мужчин, и всю свою нежность она отдала.. своим героям и — птицам, для которых в детстве даже шила одежду и научила курицу пятиться: об этом даже сняли репортаж и в писательница с улыбкой потом говорила, что это был самый счастливый момент в её жизни: дальше всё шло уже по наклонной.
Мило, правда? И чудовищно грустно. Какой-то Гоголевский гротеск бескрылой птицы, пятящейся жизни от ужаса своей судьбы, лёг на её жизнь уже с детства.
Да Фланнери и писала, что на неё сильно повлиял Гоголь.

Голубые коридоры боли… она писала, что боль ей даёт больше, чем путешествие по Европе.
Боль вообще снимает анестезию ложной морали и жизни, возвращая удивлённую душу в рушащийся мир реальности.
Вся беда в том, что возвращаясь после анестезии, мы на миг теряем себя в мире, и творим новую, третью реальность, в противовес внутренней и внешней: быть может, в этой трагической и мгновенной реальности и сокрыта возможность истины и души?
Пришёл в себя на постели больничной. Ещё не чувствуешь толком ни рук ни ног.
Они ещё блаженная часть общего онемения мира: постели, столика рядом, медсестры даже и деревьев с облаком сизым за окном.
Словно бы кто-то перележал мир, душу, как перелёживают руку в ночи, и ты уже не чувствуешь в мире себя.
Просыпаешь в ночи от древнего ужаса: рядом лежит что-то змеиное, чужое: это моя рука. Робко касаюсь её ещё толком не проснувшись, и вскрикиваю, пугаюсь её, себя пугаюсь!
Проснувшийся после анестезии в тумане осеннем сознания, пытаешься пошевелить рукой, и не можешь.
Не понимаешь ещё, чем должен пошевелить: рука ещё как бы не сотворена.
Но ты чувствуешь тёплое желание движения в мире: смотришь на внимательную зелень листвы за окном и хочешь пошевелить ею: чем она хуже руки?
Медсестра словно бы замечает эти муки пробуждения Адама.
Как странно..Лежишь на постели, пытаешься пошевелить рукой… а что такое — рука?
Вот медсестра что-то заметила и улыбнулась тебе, подходит.. она — милая.
Может, она и есть — рука? Или сразу — крыло? Белое, лёгкое..
Было бы славно. Вот и второе крыло вошло в палату и улыбнулось.
К чему это я. В романе словно бы все герои отошли от анестезии, они все пережили какую-то аварию… столкновения с жизнью.
Каждый из героев застрял душой в своей реальности.
Они не знают толком, кто они и где они: вплавлены в грозовые пейзажи природы и судороги мыслей своих.
Бог, где ты!? Мир сотворён зачем-то и существует куда-то, в нём живут люди куда-то, по-встречке и не видят себя в темноте: в любой миг их может что-то сбить, причинить боль смерти.
Облитые плотью неприкаянные души… неравномерно облитые: 4 человека облили одной плотью… плоть растекается, как яйцо солнца, вбирает в себя деревья, голубоглазый прибой беззащитной реки и крыло перепуганной птицы: господи.. и это всё я — человек!?
Итак, мы видим изувеченное грозой генеалогическое древо Жизни. Видим лестницы рода, оборвавшиеся в небе, в никуда.
Под этой лестницей течёт река, отражая небесную лестницу, по которой, как в лестнице из сна Иакова, не ангелы нисходят туда и сюда, но души, в ужасе, бегут из мира, но натыкаются на пустоту неба, и сталкивают друг друга обратно в жизнь, рождаясь в ужасе вновь.
Спираль истории — как неприкаянное эхо первого слова бога в мире: сумасшедший и неуверенный в себе старик, похищает своего племянника.
Мальчик сбегает от него.. Спустя время, сестра мальчика, в грехе и «блуде» рожает ребёнка и с любовником стремится уехать из.. нет, не из зачарованного и проклятого городка, а, кажется, из самого безумного мира, но — разбивается: выживает один этот ребёнок и его снова похищает старик.
Уже подросший мальчик ( первый похищенный), к этому времени уже учитель и он стремится вернуть себе своего племянника: экзистенциально-гротескный образ Христа; у безумного бога вообще нет детей, он их.. похищает.
К слову, это многое бы объяснило в тысячелетних спорах философов и священников: собирается мировой консилиум, журналисты со всего мира, и объявляется: дамы и господа… оказывается, всё было очень просто. И наличие зла в мире и смерть бога… в общем, бог существует, но он — сумасшедший.
Со своей Магдалиной, работающей в обществе по опеке детей, учитель рожает ( почти как в библии, по мужски завидующей жизнелюбию женщин и их свободе, властью над этой жизнью: Исаака родил Иакова..) идиотика.
Магдалина.. сбегает. Не столько от мужа и ребёнка, сколько от безумия мира и страха остаться в мире наедине с ним: тема мирового сиротства Достоевского.
Здесь начинается линия Достоевского, и, я бы сказал — Андрея Платонова.
Есть у него изумительный в своей трагичности рассказ «Алтеркэ», о маленьком мальчике, символизирующем Христа, над которым… совершили насилие ( апокрифический кошмар сна Достоевского)
Мальчик-Христос становится пулуослепшим идиотиком в прекрасном и яростном мире: это то, что люди сделали в мире с богом, или — с истиной.
В романе изумительно это противопоставление, столкновение лирических вспышек природы, и.. безумия и жестокости человека.
Читая роман, так и кажется, природа сейчас очнётся, заговорит: боже, кто это живёт рядом со мной в сумерках жизни? Мне страшно! Мне больно!
А живут — человек и бог, вечно преследуя и убивая друг друга.
Образ Христа в романе тайно обыгрывает жуткий образ из Идиота Достоевского: Мёртвый Христос на картине Гольбейна.
Достоевский писал, что от такого Христа можно потерять веру в бога.
Я бы добавил, что от образа бога и людей в романе — можно потерять веру в бога и человека: хочется прижаться к милой природе, заслоняя её, как ребёнка, от всего этого ада.
Повторяющийся образ Христа в романе: «Кровоточащая, смрадная, безумная тень Христа», за которой должен идти ребёнок.
Это… Один из самых страшных образов Христа в мировом искусстве, ибо он похож… на Крысолова из сказки, заманивающего детей и уводящего их из города — в реку.
Дети в романе страдают все, и не всегда физически.
Это вообще страшная тема духовного насилия.
С физическим — всё ясно и так, но духовное насилие мы не всегда замечаем, оно может продолжаться у всех на виду в солнечный и прекрасный день, и мы разве что оглянемся на это, и всё. Например, желание родителей навязать свою волю и свою мечту — ребёнку, желая видеть в нём не того кто он есть.
Есть один артхаусный фильм, в котором муж с женой, фанатики и безумцы, желая спасти детей от «безумия» мира, увезли их в глушь и воспитывали там, прививая свой ад.
В итоге, девушка-подросток, ничего не зная о сексе и грехе, подпала под змеиное искушение женщины-учительницы: за блестящую расчёску она приложилась губами к её гениталиям: для подростка это было так же невинно, как коснуться губами плеча или стекла: фантомное и страшное насилие. Ребёнок ещё не чувствует надругательства над волей своей но ощутит это со временем, как бы упав сердцем назад.
Эксперимент продолжался. Желая пересотворить мир, родители просто.. меняли слова об этом мире: солнце — было деревом, и оно росло в окно, пробиваясь побегами лучей в комнату.
Рана на теле, порез, не была болью, а звалась улыбкой и счастьем: счастье на коже, счастье от редкого мороженого или пролетевшей возле окна птицы.
Все слова и ассоциации детей трагически смешивались и причиняли им ад в их лживом Эдеме.
Так и мальчик в романе, старик, многие из нас, в лабиринте своих ассоциаций смещённых о мире, порой причиняем боль другим и себе, просто дотронувшись до счастья или осеннего листка в прошлом.
Старик — изнасиловал душу ребёнка в романе, посеяв в нём бредни о боге, о том, что он, мальчик — новый пророк: мальчик пытался даже остановить солнце. Быть может, Христос в детстве, тоже пытался…
Освободившись от старика ( образ бога), мальчик попал в совершенно новый и безумный мир: он впервые видит телефон и пытается дозвониться своему дяде, не подняв даже трубки.
Чудесный символизм общения с богом, особенно если учесть, что дядя, после того как старик в него стрелял из дробовика, когда он хотел вернуть мальчика, почти оглох и пользуется слуховым аппаратом.
Эта обоюдоострая тишина в романе — главный герой. Она — древнегреческий хор и рок за спинами действующих лиц: все звуки и красота мира отхлынула, как река жизни, и на отмели существования, плоти — бессильно содрогаются рыбы: сердца: никто друг друга не слышит: лишь безумие своё слышат.
Эта тишина мира, людей — гроб с умершим в мире богом.
Точнее — платоновский котлован, могила бога, из которой герои не могут выбраться.
У меня есть одна хорошая подруга, которая в детстве играя со своим младшим братиком на стройке, обвязав его верёвкой, спускала его в тёмную яму.. желая отыскать каких-то подземных жителей.
Лишь позже она узнала, что стройку закрыли из-за карстовых провалов: яма была бездонной.
Чтение этого романа похоже на ощущение этого погружения…
Похоже на то, как читаешь чей-то сон и он прорастает в тебя: герои живут в каком-то апокалиптическом котловане жизни, вместе.. с трупом бога.
Их окружают сумрак и смрад. Порой они поднимут голову, и их глаза на миг захлебнутся синевой, птица качнётся в небе, словно игрушка над колыбельной.
Кажется, что мир проклят, и солнечные лучи замерли в нескольких метрах от земли: физически не хватает воздуха и света при чтении.
Хочется протянуть руку и коснуться прямоугольник света от окна на полу, хочется коснуться человека, друга, и радоваться, улыбаться, что есть в мире люди, друзья, свет!
А потом продолжается чтение: словно идёшь по тусклому коридору чужого сна.
Двери то открываются, то закрываются, словно линяющая чешуя крыльев.
Каждая дверь щурится на тебя адом и раем твоего прошлого.
Как во сне, хочется что-то сделать, дотянуться мыслью до чего-то, свернуть мыслью, оставив тело, как тень-лунатик, в коридоре.
Хочется почесать сердце и мысли у себя в голове и у сердца, куда они перебежали, ища убежища.
Вот ты чешешь какую-то грустную мысль в груди: появилась дырочка и осыпается сухой кровью.
Расчёсываешь своё прошлое в груди.. Дырочка увеличивается, она уже размером с ладонь друга.
В груди что-то шевельнулось… В ужасе замираешь, смотришь в грудь: там что-то моргнуло и шевельнуло грязным крылом. Вскрикиваешь…
У героев романа в роду есть ген безумия, и каждый с ним борется как может: похоже на русскую рулетку в аду: приложил тёмный холодок дула с одним патроном в барабане револьвера к виску… слёзы на глазах; палец на курке, дрожит веком раненой птицы: выстрел.
За тысячу миль от тебя падает невинный ребёнок.
Старик — безумец, понятно. Он выпустил в себя всю невидимую обойму: поддался искушению.
Где-то в будущем, как листва в Эдеме, тихо падают в траву убитые дети...
Учитель, дядя мальчика, решил бороться с этим искушением: он стал атеистом.
Он оградил себя от мира и.. всего божественно-прекрасного: искусство, любовь, природа…
И тут мы опять вступаем на территорию Достоевского.
Помните как в ПиН, Свидригайлов говорил о том, что если бы весь мир сузился до одного маленького уступчика на скале, он бы и тогда благословил и эту жизнь и этот уступчик.
Писательница спорит с Достоевским, до абсурда развивая эту мысль: разве это — жизнь? Свобода?
Что человек без мира и свободы? Да, он самый...жалкая и зловещая пародия на сошедшего с ума бога, занимающегося самобичеванием от скуки и невозможности любить.
Племянник учителя, спасшийся от мёртвого старика, думает, что поборол в себе это безумие — бога, но он боится смотреть на безумного мальчика: мёртвый старик и бог спиритуалистически смотрят на него, искушают.. трагически нравственным патом: остаться жить с ним, значит уступить богу.
Представьте, что самое ваше мучительное и порочное желание, вдруг отделилось от вас во сне.
Вы открываете в полумраке глаза и видите его ухмыляющегося, в образе человека, рядом с вами на постели.
Убить ребёнка, бога — значит ступить на стезю ужаса солипсизма Кириллова из Бесов Достоевского: убить бога и самому занять его место.
По сути, это с успехом и делает человечество.
Здесь нравственный пат человечества: с богом-фанатиком, ради своего царства небесного жертвующего мириадами жизней, мы жить не можем; мечтаем робко… о царстве небесном без бога, но оно почему-то увядает, словно бы заразившись чем-то от человеческого.
Как и во сне, в романе есть что-то, что пропущено, как в слипшихся страницах книги: читаешь о солнце и пляже.. переворачиваешь страницу, и вдруг, текст мрачно накреняется, кто-то лежит в вечернем переулочке, раненый в грудь.
Возможно, мне это в жару только показалось: сексуальное насилие над мальчиком ближе к концу.
Голос в голове мальчика.. он не видел его лица.
И вот, он сел ночью в машину к незнакомцу, как мать его когда-то, разбившаяся: теперь разбилась и его судьба ( катастрофический недостаток женщины в пространстве романа, ввергающий жизнь - в ад сиротства)
Душа и тело, как робко взявшиеся за руки дети-дурачки, продолжили жить в никуда.
Этот человек был голосом в его голове.
Более того, этот голос, который он считал другом и ангелом, был обыкновенным.. дьяволом.
Экзистенциальный, тайный срез романа: нет никакой битвы бога и дьявола в сердце мальчика, человека вообще: есть один ухмыляющийся дьявол, есть нечто дьявольское и человеческое в мире, а бога… давно уже нет в мире.
А это уже набоковская тема: ангелы и голоса добра заманивают душу в царство небесное, всё дальше и дальше.
Душа что-то подозревает: крыло ангела, как перегоревшая лампочка, мигает тусклым светом.
Душа оглядывается вокруг себя: руины и тление мира, искусства, любви: слишком далеко её завели в этот ад — не выбраться уже.
Среди тления — островок цветов. На нём лежит ребёнок. Он невесомо поднимается в воздух, расправив руки крестом: боже, неужели это спасение, надежда?
Присмотрись, душа: семена мыслей фанатика, посеянные в душе ребёнка, дали свои тёмные всходы пустоты: сухой терновник разрывает тело мальчика изнутри, пробивается из его запястий, щиколоток, плечей и груди… терновник опирается о землю и поднимает плачущего ребёнка над землёй, возносит его.. силою берёт, наслаждаясь своей властью над жизнью.
Боже! Может хватит уже что-либо брать силой? Довольно!!
Достоевский писал, что если бы человечество предстало пред богом, оно протянуло бы в своих дрожащих руках Дон Кихота Сервантеса: мол, вот как мы поняли жизнь…
Милый, милый Достоевский… кто же с одной книгой отправляется на небеса, к тому же, к богу?
Нет, иногда хочется, чтобы бог — существовал, чтобы можно было ему протянуть… целые тома Платонова, О'Коннор, Кизи, Ивано-карамазовские вырезки из газет с насилием над детьми…
Стоять в царстве небесном, перед тем как уйти навсегда, хлопнув не дверью, но крыльями, строго смотря на исказившееся от ужаса и боли лицо бога, читающего весь этот ад.. который он не мог взять силой.


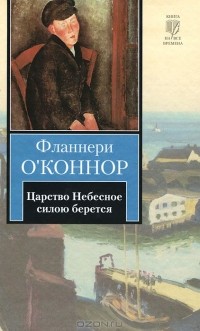
Ветка комментариев
Умеешь, Саш, искушать... не собиралась читать этот роман, а теперь вот даже не знаю. Люблю такие контрасты)
Саш, в твоих историях, как правило, есть баланс светотени, надежда... и даже нотки оптимизма) Ну и потом я же написала про соблазн погружения в сны :)
Не смотрела..
Нет, читала пару лет назад. Подробности уже не помню, но такие историйки там были)
По меркам той эпохи, взрослые, но всё же ещё очень юные...
Их я ещё не осилила)
Протестую) Оно вовсе не слабое, в нём чувствуется потенциальная глубина...
Вот, ты всё и объяснил. Согласна, ужасно, когда человек запирает себя в подобном аде мысли. Такая воображаемая "свобода" часто имеет печальные последствия...
Это очень страшно... Наверное, ещё и поэтому некоторые люди верят в реинкарнацию, карму и грехи прошлых жизней. Мол, как иначе объяснить такие врождённые болезни? Но мой мозг отказывается принимать, что человек с рождения должен страдать якобы из-за прегрешений в "прошлой" жизни...
Сашуль, спасибо тебе ещё раз за знакомство с новой для меня книгой! Как всегда, рецензия замечательная)