Больше рецензий
11 мая 2017 г. 12:50
328
4 Главное — возбудить в сердцах уважение к подвигам ума и просвещения
РецензияПосле прочтения мемуаров Сабанеевой разговаривала с мамой, обсуждая и делясь впечатлениями. Почти сразу же мне рассказали, что у ее дяди декабриста в учителях брата был историк литературы, цензор, профессор Петербургского университета и действительный член Академии наук Александр Никитенко, мол тоже, весьма интересный мемуарист, стоит почитать. Сказано - сделано.
Встречаясь впервые, в январе 1826г, с Александром Васильевичем мы видим перед собой бывшего крепостного, молодого человека, чрезвычайно взволнованного собственной судьбой. После декабрьских событий, он, как приближенный к одному из декабристов, боится и преследований за собой. Слишком много друзей из той среды, например Оболенский Е.П., Глинка Ф.Н., и особенно Александр Васильевич был дружен с Ростовцевым Я. И. (12 декабря 1825 года в письме Николаю I Ростовцев известил императора о возможном заговоре декабристов). Это самое письмо очень не давало покоя Якову Ивановичу, как можно же понять из дневника:
Но что скажет обо мне потомство?— заметил, между прочим, Ростовцев, — я боюсь суда его. Поймет ли оно и признает ли те побудительные причины, которые руководили мною в бедственные декабрьские дни? Не сочтет ли оно меня доносчиком или трусом, который только о себе заботился?
— Потомство, — возразил я, — будет судить о вас не по одному этому поступку, а по характеру всей вашей будущей деятельности: ей предстоит разъяснить потомству настоящий смысл ваших чувств и действий в этом горестном для всех событии.
Какие эмоции вызывает во мне Александр Васильевич тех годов? Восхищение, если честно. Хотя восхищение и просто удовольствие от чтения было всю книгу, даже когда автору было уже за 50. Просто я как-то совсем отвыкла видеть настолько разумного 22 летнего молодого человека, так стремящегося к самообразованию и обучению других. Даже когда он переживал плохие времена, совсем не имея денег, что бы было на что покупать перья и обувь, он пытался как то добиться стипендии или получать деньги за работу, переживая, что иногда приходилось продавать книги. Со временем, получив поддержку, он много и уважительно отзывается о своем попечителе - Константине Матвеиче Бороздином. Это на самом деле интересно - сам Александр Васильевич, как мне кажется, не упускает возможности потренироваться в описании людей, подробно рассказывая как воспринимает близких своих друзей, да и других людей вокруг, замечая и слабые и сильные стороны каждого, порой жалея, что не может повлиять и помочь добиться большего. Впрочем, он даже на самого себя периодически ругается - мол, мог бы больше времени уделять учебе или, сдав экзамен, оказывается недоволен собой - мог бы лучше. В молодости его дневник более открытый, больше мыслей обо всем, и чем старше он становится, тем большую собственную цензуру проходят его эмоции в записях. Ну, он же цензор, в конце концов.
Мы вообще мало любим останавливаться на предметах и углубляться в их суть. Все, что отзывает трудом, для нас нестерпимо. У нас многие люди, даже с талантом, заражены язвою лени и стремятся легким способом добывать похвалы и удивление. Для них все решает минута энтузиазма: они называют это вдохновением и уже ни о чем больше не заботятся.
Говоря о цензуре - читать про его работу и в цензуре и в университете было неожиданно очень интересно. Все эти истории о внутренних конфликтах цензоров между собой, авторами и начальством, рассказы про императора и его семью, истории о том, что запрещали печатать и за что сажали на гауптвахту (а Александр Васильевич в жизни побывал там дважды, за разные напечатанные произведения), за отношения военных и религиозных представителей к печатаемому (второй раз на гауптвахту он из-за военного и оказался). Со временем Александр Васильевич чаще стал сталкиваться с препятствиями к порученным ему целям, но, когда он уступал враждебному натиску подавал в отставку - "не тут-то было, меня чуть не за полы платья удерживают." Сплетни и слухи никогда не обходили его персону стороной, даже о взяточничестве говорили или попытках занять место директора Аудиторского училища, когда он предложил план его преобразования, борьба с издателями, когда он стал редактором «Современника».
Состояние нашей литературы наводит тоску. Ни светлой мысли, ни искры чувства. Вое пошло, мелко, бездушно. Один только цензор может читать по обязанности все, что ныне у нас пишут. Иначе и быть не может. У нас нет недостатка в талантах; есть молодые люди с благородными стремлениями, способные к усовершенствованию. Но как могут они писать, когда им запрещено мыслить? Тут дело вовсе не в том, чтобы направлять умы или сдерживать еще неопределенные, опасные порывы. Основное начало нынешней политики очень просто: одно только то правление твердо, которое основано на страхе; один только тот народ спокоен, который не мыслит. Из этого выходит, что посредственным людям ничего больше не остается, как погрязать в скотстве. Люди же с талантом принуждены жить только для себя. От этого характеристическая черта нашего времени — холодный, бездушный эгоизм. Другая черта — страсть к деньгам: всякий спешит захватить их побольше, зная, что это единственное средство к относительной независимости. Никакого честолюбия, никакого благородного жара к вольной деятельности. Одно горькое чувство согревает еще адским, жгучим жаром некоторые избранные души: это чувство — негодование.
Будучи цензором, он знаком со многими писателями и поэтами, и о каждом пишет в своем дневнике, рассказывая как сам видит его, как воспринимает. Особенно мне понравились его рецензии на Гоголя (которого признавал замечательным писателем, но сперва относится слегка насмешливо из-за вечного Гоголевского возвышения себя как гения. Рассказывает даже забавный случай про неудачный лекторский опыт Гоголя.) и на Пушкина.
Прискорбно такое нравственное противоречие в соединении с высоким даром, полученным от природы. Никто из русских поэтов не постиг так глубоко тайны нашего языка, никто не может сравниться с ним живостью, блеском, свежестью красок в картинах, созданных его пламенным воображением. Ничьи стихи не услаждают души такой пленительной гармонией. И рядом с этим, говорят, он плохой сын, сомнительный друг. Здесь поэт вполне совершил дело поэзии: он погрузил мою душу в чистую радость полной и свободной жизни, растворив эту радость тихой задумчивостью, которая неразлучна с человеком, как печать неразгаданности его жребия, как провозвестие чего-то высшего, соединенного с его бытием. Поэт удовлетворил неизъяснимой жажде человеческого сердца.
Александр Васильевич не обходит в дневнике и, скажем так, "отгружающий мир". Среди записей о путешествиях, о поездках на дачу с друзьями и посещенных концертах и вечерах, были записи и о войне с Турцией, о покушении на императора, и, особо жуткие, про свирепствующую в Петербурге холеру, когда каждый день умирало более 200 человек. Не обходит и историю дуэли Пушкина, предшествующую ей почти травлю писателя записками о рогоносце, достаточно подробно описывает его смерть и последующие похороны, рассказывая и о запрете университета ходить на них.
Русские не могут оплакивать своего согражданина, сделавшего им честь своим существованием! Иностранцы приходили поклониться поэту в гробу, а профессорам университета и русскому юношеству это воспрещено. Они тайком, как воры, должны были прокрадываться к нему.
Про события из жизни и смерть того же Гоголя пишет он не менее подробно, некоторое уже многими годами позже, отзываясь однако, как о его смерти как об "еще одной горестной утрате одного из сильных опор партии движения, света и мысли". Особо сетует на уничтожение его бумаг.
О собственной семье, Александр Васильевич, прямо как и Сабанеева, почти совсем не пишет. Разве что в дневнике мы встречаем слова - а я уже месяц как женат, упоминания о выездах с семьей, и упоминание вскользь - "В эти для меня роковые дни * я выпустил из виду разные общественные события" и только от редактора дневника в сноске мы узнаем о смерти любимого сына Александра Васильевича. А ведь в дневнике не было и слова о его рождении.
Он о своей встрече, легкой влюбленности и последующего общения с Анной Петровной Керн написал больше, чем о жене:
Не знаю, долго ли я уживусь в дружбе с этой женщиной. Она удивительно неровна в обращении, и, кроме того, малейшее противоречие, которое она встречает в чувствах других со своими, мгновенно отталкивает ее от них. Это уж слишком переутонченно.
Если в мемуарах Сабанеевой меня это весьма разочаровало, то читая этот дневник, я сразу понимаю - совсем не на цель рассказывать истории родственников направлены данные записи, и даже не ропщу на автора. Все личное было удалено из дневника уже при его редактуре и понятно почему.
Сам Александр Васильевич не был и создателем активного протеста против вещей, которые ему не нравились,скорее наблюдатель, как о нем говорили другие - в течение десятков лет он, по определению автора одной из критических статей о «Дневнике», "бессменно цензирует днем, а ночью, в тиши кабинета, изливает душу." Пусть он может не такой яркий и активный, но все равно мне нравится как человек.
Честно говоря, я и так выписала большое количество цитат из книги (все добавила на Лайф Либ), а ведь это только первый том дневника. О чем я могу сожалеть - дневник прошел множество разных редакций (в том числе и от дочери Александра Васильевича) некоторые вещи они убирали, другие чуть меняли и нельзя точно указать как много мест затронуло перо редактора. Из-за этого из текста периодически пропадают месяцы, хотя автор дневник вел практически ежедневно.

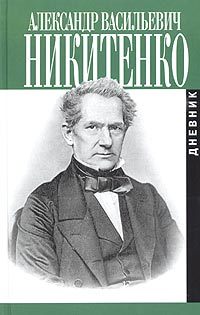
Комментарии
Давно хотел прочитать эту книгу. После такой интересной рецензии желание прочитать стало еще больше.
Залпом читать тяжело, потому что хочется параллельно узнавать дополнительную информацию обо всем, но удовольствие большое)
Да за ссылки отдельное спасибо!
Действительно книги такого рода заставляют поработать )))