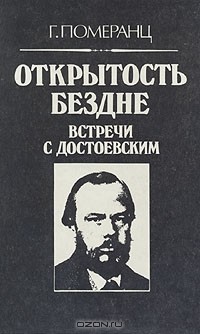Больше рецензий
26 февраля 2016 г. 14:48
521
4
РецензияО Достоевском. Личное
«В своей душе он умел уместить целую вселенную».
Умение созерцать бесконечность и осознание конечности всего сущего – вот предельные грани человеческого духа. Лишь немногие избранные способны приблизиться к одной из них, и только считанные единицы (к счастью!) обречены соединить в себе оба полюса.
Путь к Достоевскому для Григория Соломоновича Померанца начался с личного переживания чувства бездны. «Идея, которая ушибла меня, была идеей бесконечности… Я сосредоточился и месяца три созерцал один самодельный парадокс: «Если бесконечность есть, то меня нет; а если я есмь, то бесконечности нет». Шли лекции, а я сидел и ворочал в сознании свой коан (интеллектуальному анализу он не поддавался. Можно было только глубже и глубже вглядываться)». Именно в героях Достоевского Померанц увидел родственную душу, братьев «по любви к вечности и по наивности своих попыток прикоснуться к вечности». Прочтение Достоевского через призму личного переживания (к которому относится не только чувство бездны, но и опыт лагерной жизни, восточная философия, Тютчев и Даниил Андреев) делает статьи Померанца удивительно волнующими и чувственно-наглядными. Особенно хочется отметить эссе «Князь Мышкин» - головокружительное размышление о главном герое романа «Идиот» и «Эквлидовский и неэвклидовский разум» (название отсылает к знаменитому диалогу Ивана и Алеши: «у меня ум эвклидовский, земной»).
Но обратная сторона ощущения «вечности и бесконечности мира» - осознание конечности человеческого существования и страх смерти. То, что испанский ценитель Достоевского, Мигель де Унамуно, называл «трагическим чувством жизни». Именно «на стыке» вечности мира и конечности своего «я» и возникает чувство бездны или «тютчевский вопрос о смысле человеческой жизни в бесконечности», как пишет Померанц. «Древний» метафизический вопрос, который Достоевский расширил, углубил и перевёл на новый уровень осознания. Однако развивая свою мысль, автор постепенно подменяет «чувство бездны» Достоевского собственными ощущениями. По мнению Померанца, «Достоевский боится бездны». А поскольку существует страх, Померанцу кажется, что Достоевский, как любой здравомыслящий человек, падающий в пропасть, должен искать, за что зацепиться. Однако мне подобная интерпретация «страха» Достоевского не очень нравится. В этом смысле, думается мне, Достоевский не любой и не здравомыслящий. Он переживает бездну… как бездну; пустоту, ничто, не имеющее ни границ, ни пределов. Бездна, бесформенная стихия, и есть бытие Достоевского. Он знает, что опоры нет, но ужаса не испытывает. Ни ужаса, ни отчаяния.
Для Померанца Достоевский одновременно «и борец с демонами, и одержимый» (можно добавить – и сторонний наблюдатель за развернувшейся борьбой), а такое положение, по глубокому убеждению автора, противоречиво, неустойчиво и опасно. Нужна несокрушимая гармония, «парение в духе»: бесов необходимо победить. Безусловно, автор прав в оценке Достоевского как христианина. Можно сформулировать «простой катехизис», к которому следует всегда прибегать: как бы на моём месте поступил Христос? Ни поведение Достоевского как исторической личности, ни поступки его героев, даже самых «положительных», этому правилу не соответствуют. Отсюда следует вывод: «Достоевский поразительно много сделал для обличения демонических сил в человеческой душе, но преобразить себя он не сумел».
Раздвоенность Достоевского (и его героев), метания между идеалом Мадонны и идеалом Содомским и невозможность достичь гармонии оценивается Померанцем как несовершенство и противоречивость. А может быть, тут не противоречие, а сложность? Достоевский, действительно, антиномичен. И его книги не поддаются буквальному прочтению и логическому объяснению. Отсюда, кстати, проистекает ещё одна «ошибка» Померанца: попытка рационально объяснить то, что не поддается разумному объяснению. (Похожую «оплошность» допускает Алёша в беседе с Иваном). Например, анализируя так называемые «ксенофобские» статьи Достоевского, Померанц приводит ряд цитат и делает вывод:
Во всех этих цитатах, которые я выписал достаточно полно, поражает совершенное пренебрежение здравым смыслом… Нищета девяти десятых евреев объясняется тем, что сами занятия их несут в себе кару, ибо нехорошо торговать чужим трудом. Но тогда непонятно, почему Ротшильд от этого же занятия богатеет, и почему не богатеют портные, сапожники, столяры, возчики, наконец – мелкие лавочники, честно торгующие крупой и селедкой (а вовсе не чужим трудом); и почему бедны русские крестьяне, за что их наказывает Бог.
Сначала автор прозорливо отмечает «пренебрежение здравым смыслом», а затем с помощью логики пытается доказать несостоятельность «бессмысленных» рассуждений Достоевского. Разве так проявляется «здравый смысл»?
По мнению автора, появление «злых» статей вызвано полемическим задором Достоевского. Не удержался. Высказался слишком сильно и грубо. Перегнул палку. И появилась пена на губах ангела. (Кажется странным, что Померанц воспринимает публицистику Достоевского как некую идеологическую конструкцию, очень всерьёз и буквально). Показательно, что соответствующее эссе начинается с описания встречи автора с пожилым Бахтиным. Померанц хотел обсудить с Мастером некоторые свои статьи о Достоевском, в первую очередь, конечно, выслушать критику и указания на ошибки, но Бахтин от полемики уклонился. Возможно, не потому, что считал спор - злом (а именно такой вывод делает автор), а потому что ему было не интересно. Вряд ли, я думаю, Померанц мог сказать Бахтину что-то новое о Достоевском. То, что показалось заслуживающим внимания, Бахтин отметил и обсудил (эссе об эвклидовском разуме), а остальное, быть может, показалось ему просто скучным.
«Националистические» статьи Достоевского (особенно вырванные из исторического контекста и из контекста дневника писателя) очень легко оспорить и опровергнуть. И столь же легко оправдать. Но суть в другом: подобные статьи не требуют реакции или ответа. Тут как в Легенде о Великом инквизиторе – нужно промолчать. С другой стороны, желание Померанца высказаться понятно: он разочарован «злобой и ненавистью» уважаемого Фёдора Михайловича. Насколько я могу судить, Померанц принципиально был против проявлений «национализма» и «почвенничества» у любого писателя. Позиция, заслуживающая уважения, однако сам автор придерживается её не всегда:
патологией древних евреев была диаспора. Евреи ведь с самого начала чужаки, «пришельцы», «странники» (так переводится само слово «иври»). В странствиях вынашивали они образ Спасителя. Но, собственно, вынашивали пророки, а кругом было много гниющей, вырождающейся плоти. Дух святой вошел в гниющее тело. Греческий народ, несмотря на все свои пороки и извращения, был гораздо здоровее. Но он остался в язычестве, пока его не просветил ап. Павел. Русской патологией была беспочвенность, созданная Молохом Российской империи, ломавшим на куски свое собственное прошлое, как Грозный с опричниками и Петр на всешутейшем и всепьянейшем соборе. Русской патологией была сама эта империя, Третий Рим, ради которого народ был отдан в рабство, в крепость, предан батогам, дыбе, шпицрутенам и всем прочим казням московским, – единственно ради того, чтобы держать другие народы, павшие под власть царей, в еще большем унижении.
В целом, в концепции «Достоевского», созданной Померанцем, ключевую роль играет именно «национальная идея»: о неограниченном размахе русской души и «способности русских к одновременному созерцанию противоположных духовных глубин». Русская «широкость» оценивается Померанцем как временное и несовершенное состояние, требующее разрешения по аналогии с диссонансом в музыке. Раздвоенность обязательно должна перейти в гармонию. Мнение, наверное, разумное. Но мне ближе представление о Достоевском как о цельной личности. Раздвоенность, противоречивость, возможно, безумие, но Достоевский свою «широкость» выдержал. Как оказалось, не только для себя. Конечно, прав Померанц, разумный человек, столкнувшись с бездной (то ли по причине духовного несовершенства, то ли из-за профессионального любопытства), не бросается в неё вниз головой. Он ищет, за что ухватиться. Достоевский и есть спасительная опора.