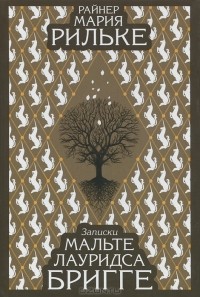Больше рецензий
24 ноября 2015 г. 00:21
391
5
РецензияЯ сижу и, как собирают ягоды, читаю поэта. Я, может быть, самый бедный из людей, но у меня есть поэт.
Тоскливо, должно быть, в мире бездушных механизмов, эмансипированных дам и бородатых социалистов тому, кто помнит полумрак портретной галереи родового поместья, где бледные, утонченные и печальные предки взирают с высоты своей многовековой мудрости на спешащие и спотыкающиеся минуты, дни, годы. Когда-то и собственную смерть носили в себе, как плод носит семечко - горделиво, твердо, осознанно; а сейчас и своей жизнью-то мало кто живет, в основном влезают как в готовое платье, и носят, пока не сотрут до дыр. Здесь строятся планы на будущее, но в них как будто и не верят вовсе; а Там - старый граф рассуждает о будущем как о прошлом, и о прошлом как о настоящем. Здесь "девушки близки к тому, чтобы думать о себе так, как мужчины могли бы о них говорить в их отсутствие. Это им кажется собственным прогрессом. Они уже начали оглядываться, искать, они, чья сила всегда состояла в том, чтобы находили их самих". Таких на шпалерах с единорогом не изобразят, да и умереть от горя, как средневековые возлюбленные, они вряд ли способны. В общем, разве сейчас мир - "такой выцветший не потому, что когда-то был столь ярок?"
Естественно, сам Рильке, сын простого австрийского чиновника, не имел никакого отношения (кроме области воображения) к пыльным замкам, наследным принцам и баснословным состояниям. Но такой герой, как Мальте ему был необходим, чтобы донести и не расплескать то, что копилось в кладовых его гения, и не могло обрести достойной формы в стихах, которые, хотя и "лучшие слова в лучшем порядке", но не годятся для случая, когда важен элемент дисгармонии, чтобы на нем, как на краеугольном камне, выстроить собор мысли. Ему был нужен герой, вырванный с корнями, задыхающийся в непривычной стихии. На улицах с катарактными окнами, среди людей в поношенных масках, или меняющих маски слишком часто, суетливых и остающихся на поверхности жизни, ни во что не углубляющихся, не связанных по-настоящему ни с чем - "как часы в пустой комнате".
А для Мальте - ничто не ничтожно, ничто - не избыточно. Он никого и ничего не обременял своей любовью, разве что "любил быть, просто быть". И еще любил наблюдать, и радовался как дитя, когда удавалось по-настоящему Увидеть. Его возносят к небесам блаженства и низвергают в бездну отчаяния как новый шейный платок слепого продавца газет, так и комично бунтующие обитатели полотен Босха; как нервный тик случайного прохожего, так и гармония покоя в строчках Франсиса Жамма. Его одинаково интересуют страх смерти и страх жизни. И одинаково увлекают истории убийств вероломных и убийств трагически случайных, безумств почти трогательных и сумасбродств почти тиранических.
Мальте обречен быть одиноким. Он свыкся со своим одиночеством, сдружился с ним. Он - почти святой в своем желании все обнять и все принять, ничего не осуждая. Сочувственное, но безучастное наблюдение комедии жизни и "долгая любовь к Богу - тихая, не имеющая цели работа" - его удел. Он - как спящий мальчик в "Жертвоприношении" Тарковского - бури бушуют в душах людей, они куда-то бегут и кричат, огонь пожирает вещи и дома, миры разрушаются и встают из руин - а мальчик то ли спит, то ли творит и наблюдает. Безмятежно светлое создание, но бесконечно одинокое. Своего рода икона, как чистая страница Данте.
Рильке знал всё об одиночестве. Об одиночестве как выборе, об одиночестве как безысходности.
Когда говорят об одиноких, всегда предполагается или имеется в виду слишком многое. Считается, что люди знают, о чем идет речь. Но они не знают. Они никогда не видели одинокого, они его только ненавидели, не зная его. Были его соседями - и изводили его, были голосами в соседней комнате - и его искушали. Они настраивали против него вещи, и вещи шумели и оглушали. Дети ополчались против него, ведь он был нежен как ребенок, и подрастая не становился взрослее. Они чуяли одинокого в его убежище, как загнанного зверя, на которого объявлена охота, и его долгая юность не знала периода запрета травли. И когда он не уходил, они кричали и называли все, что связано с ним, безобразным и подозрительным. И когда он не обращал на них никакого внимания, они становились еще настойчивей и сжирали его пищу, сглатывали его воздух, оплевывали его нищету так, чтоб она ему стала мерзка. Они его чурались, как прокаженного, и бросали в него каменья. И древний инстинкт не обманывал их: он был в самом деле их враг.
Но он не поднимал на них глаз. И они одумались. Они догадались, что, наоборот, усиливают его волю: укрепляют его в одиночестве и помогают ему отделиться и уйти навсегда. И тогда они переменились, они применили против него последнее, крайнее, иное оружие: славу. А при шумной славе почти каждый поднимает глаза и, теряя цельность, распыляется, становится ничем, самоуничтожается.