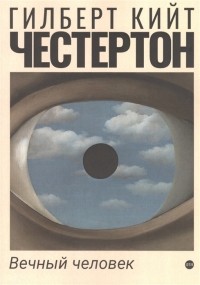Больше рецензий
17 января 2024 г. 09:00
119
4 Апология язычества
РецензияПарадокс, но Честертон-мыслитель в его глубоко философских художественных произведениях заметно превосходит Честертона-мыслителя в собственно философском произведении. С жанровой точки зрения «Вечный человек» - это такой «тео-поп», попытка популяризовать теологию. Попытка, сразу скажу, не очень удачная. Честертона сгубила его объективность и критичность: если христианские богословы осуждали язычество огульно и без оговорок, то он, как честный человек, при всей идеализации христианства не может обойти достоинства язычества.
Другое дело, что он низводит этот сложнейший многовековой (даже многотысячелетний) массив мировоззрений до уровня занятных побасенок. Но здесь он действует в русле панъевропейской традиции: злобные чудовищные великаны, с которыми на равных сражались и которых с трудом побеждали боги, выродились в туповатых увальней-троллей, которых может легко одурачить любой смекалистый деревенщина, а древние языческие богини, повелевавшие загробным миром, превратились в сбрендивших лесных старушек-ведьм, могущих разве что испортить молоко местному рогатому скоту.
То же самое произошло и в самом христианстве как продвинутой монотеистической религии: зороастрийская дуальность прогрессировала в Господа с гандикапом в виде всемогущества и довольно мощного, но имеющего власть (и то ограниченную) над этим миром и половиной мира загробного Дьявола.
Честертон говорит правильные вещи о природе языческих верований, но почему-то считает их более низкими, тенью истины – не понимая или не признавая, что подлинная вера (а язычникам в этом никак нельзя отказать) может быть как по-детски наивна, так и по-детски глубока. По своей природе вера в Христа (если брать en masse, без примеси интеллектуализма) ничем не отличается от веры в Зевса или Одина.
Вообще с мировой мифологией и психологией религии Честертон знаком слабо и преимущественно в литературной обработке (точнее, уровень научности и точности этих дисциплин был в его время довольно слаб), что заставляет его постоянно скатываться в снисходительно-наивный тон, которым говорят о заматеревших стереотипах. И его понимание языческих богов находится как раз на уровне представления о христианском боге как о бородатом дедушке, сидящем на облаке.
Добро, если Честертон действительно не ведает что творит, потому что если он намеренно упрощает, а потом развенчивает упрощение, это уже попахивает иезуитством. А заявляя о превосходстве христианства, он оказывается обуян грехом гордыни. В смысле же историческом, а не религиозном, когда он демонизирует, например, язычество Мезоамерики, он тем самым косвенно оправдывает зверства конкистадоров.
Главный аргумент, выдвигаемый Честертона в защиту христианства и заключающийся в том, что вера в Христа якобы соединила собственно веру с разумом, не выдерживает никакой критики. Поскольку, строго говоря, это не разум как высший тип мыслительной деятельности, а рацио, или, проще говоря, логика, рассудочность. Рацио – это упорядочивание, принимающее в христианстве и других монотеистических религиях форму догматизма. Я могу верить, что Господь явился в огненном кусте или разделил море, но я никогда не поверю в то, что Господь рассказал, как правильно потрошить животных или испражняться. Второе как раз и есть рацио.
По сути, христиане верят в такого же языческого Протея, только рационально. И чудовища Откровения Иоанна Богослова принципиально отличаются от чудовищ Бардо Тхедол только тем, что первых официально признали на Иппонском и Карфагенском соборах, т.е. сделали догмой. Догматики же как раз, заручившись поддержкой всего церковного официоза, преследовали те секты и еретические учения, которые пытались вернуться к истинно христианским идеалам. И которые теперь так яростно защищает Честертон.
Любой догматизм тоталитарен, это его темная сторона. Светлая сторона, правда, это сила убеждения, которая порождается четкостью и конкретностью догм. Но обвинять язычников в недостаточной силе веры и тотальности – это все равно что обвинять Веймарскую республику в недостаточном почитании и преклонении перед главой государства. Да, Честертон правильно подмечает абсурдность фразы «Верую в Одина, и Тора, и Фрейю», но ведь символ веры составил не Иисус, а клирики.
Конечно, Честертона можно понять. Его эпоха – это век увлечения теософией, спиритизмом, откровенно бредовыми псевдорелигиозными теориями. По Европе прокатилась мощная волна атеизма, лозунгом которой стали ницшеанские идеи про смерть бога. Но, говоря о достоинствах христианства открыто, без иносказаний, даже так умно и тонко, как Честертон, волей-неволей скатываешься в примитивизм и будешь напоминать ребенка, который говорит, что его родители – самые-самые. Все его аргументы имеют в лучшем случае психологическую достоверность, и если бы я прочитала «Вечного человека», не будучи знакомой ни с христианством, ни с язычеством, я бы заинтересовалась скорее вторым.
Так что если Честертон знаком вам по великолепным притчеобразным детективам, не читайте «Вечного человека». Риск разочарования очень велик. Пусть честертоновский человек не будет вечным – пусть он останется просто четвергом.