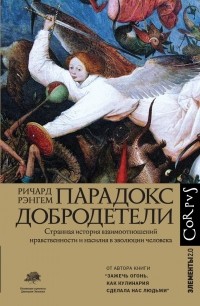Больше рецензий
31 июля 2023 г. 09:54
220
4.5 Одомашнивание и смертная казнь
РецензияИз названия и обложки я сделала вроде бы логичный вывод, что меня ждёт какая-то запутанная философия с погружением в глубины средневековой теологии. Но нет: мне в лицо кинули пятьсот страниц антропологического исследования с большим количеством пересечений с соседними областями наук.
Несколько обескуражена, но, в целом, не разочарована.
Вся книга посвящена обзору того, что, по мнению автора, в человеческой популяции отлично сочетаются низкая склонность к реактивной агрессии и высочайшая - к проактивной, и именно этим он обосновывает тот факт, что человек может одновременно быть и самым толерантным видом, и самым жестоким. Для обоснования такого противоречивого набора качеств Рэнгем демонстрирует ещё одну концепцию - самоодомашнивания. И начинает аж с исторического обзора, откуда эта теория взялась, кто придумал (греки, конечно же), почему на самом деле это может быть правдой и что мы вообще сейчас знаем о синдроме одомашнивания, кроме того, что домашние животные бок о бок с человечеством провели уже тысячелетия.
И причём тут бонобо.
С непривычки, наверное, может показаться, что одомашнивание человека - какая-то очень странная идея, потому что кто его одомашнил-то, но автор очень тщательно описывает, что именно подразумевается под этим термином, и никаких высших существ для этого процесса над человеком не требуется. В чём невозможно отказать автору, так это в том, что монография всеобъемлюще охватывает вопрос, на который он ищет ответ, и самоодомашнивание как явление разобрано до тех косточек, что в принципе сейчас хоть сколько-то известны.
Агрессия тоже во всех её видах и проявлениях исследована автором со всех сторон: от того, какая часть мозга за какую реакцию может отвечать (за разные у разных биологических видов, казалось бы, очевидно, но разница поведения у крыс и кошек при одинаковых стимулов меня тоже неожиданно впечатлила), до того, во что она может вылиться. Кролики и волки, морские свинки и норки, обезьяны и люди - все попали под прицел и описание, и, как бы разнообразно не выглядело поведение, действительно, убеждаешься, что основы его не так уж и вариативны.
Приводится много примеров из совершенно разных сфер, от наблюдений за приматами до экспериментов с одомашниванием лис, от молекулярной генетики до нейрофизиологии.
Много терминов, много других теорий, сформулированных разнообразными учёными, много ссылок на источники, много специализированных сведений. Книга не блещет литературностью слога, хотя, как мне кажется, от неё и не требовалось, или простотой написания. Читать может быть местами даже сложновато, но мне сухой и отчасти даже академичный стиль Рэнгема подошёл. Не слишком выразительно, но полно и очень информативно.
Многие предположения об очень далёком прошлом - действительно не более, чем предположения, пусть и логически обоснованные, и Рэнгем подкупает тем, что не стесняется об этом прямо говорить: да, мы понятия не имеем, как на самом деле формировалась речь, почему бонобо отделились от шимпанзе или действительно ли в прото-человеческой популяции происходил отбор по признаку меньшей склонности к реактивной агрессии. Аргументы, которые он выдвигает в пользу своих идей, можно осмыслить и проверить, и это делает книгу как-то приятнее.
Также мне очень импонирует мысль, которая сквозит сквозь последние три главы, посвящённые войнам: признание того, что война может быть естественным состоянием человечества, никак не ставит крест на развитии цивилизации и уж тем более не говорит, что надо сложить лапки и просто смириться. Многие вещи были - и остаются - естественными для других приматов, но человек умеет мыслить и обучаться, а значит, он может становиться лучше, несмотря на то, что там заложено нашей эволюцией. А ещё Рэнгем здорово обосновал мысль, почему текущее развитие нашей нравственности - во всём её многообразии - не конечно.
Правда, справедливости ради, мне кое-что всё же не понравилось во взглядах автора и его очень обтекаемых формулировках некоторых вещей.
Но в целом книга всё равно очень хороша. Рэнгем хотел подружить между собой оба взгляда на человеческие мораль и агрессию в вопросе их первичности, и он это сделал. Даже не соглашаясь с гипотезой самоодомашнивания или "теорией смертной казни", которые он выдвигает, из книги можно почерпнуть массу полезной информации, например, о том, насколько на самом деле утопичные представления о жизни общин охотников-собирателей далеки от истины. Или о том, с чем современные исследования связывают часто встречающиеся белые звёздочки в окрасе домашних животных. Или о том, какую выдающуюся роль речь сыграла и в том, как человек обрёл такие колоссальные навыки в планировании преступлений против себе подобных, и как этот механизм позволил сломить "право единственного сильного" и перейти к "праву группы старейшин", кем бы они не были.
"Парадокс добродетели", который хотя бы в этой книге перестаёт быть парадоксом, однозначно стоил того, чтобы потратить на него время.