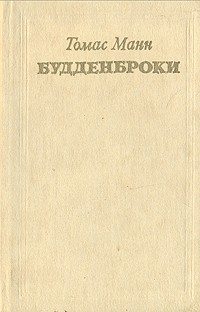Больше рецензий
23 мая 2023 г. 16:21
458
5 Спойлер Неироничный заголовок. Тут жесть...
РецензияЯ терпеть не могу семейные саги и эту начала читать только потому, что ее написал Томас Манн, да и то, знаете ли, чтение пошло лишь со второго раза (это какое-то проклятье — у меня так со всеми манновскими книгами). Честно говоря, в первый раз меня очень напугало такое большое количество действующих лиц сразу в первой сцене, и я решила, что эту тяжеловесную бюргерскую штучку в 500 страниц (для скучной семейной саги это очень много) я просто-напросто не потяну, потому что ни черта не смогу запомнить. И вот, скачанная книжка, как говаривал один профессор (он, кстати, уже умер), некоторое время "томилась" в читалке. А ровно три недели назад (т. е. уже год и з недели назад ахахах) случилось чудо! — ища, что бы такое почитать, я вспомнила о "Будденброках". Собравшись с силами, я-таки продралась через семейный обед в честь покупки дома, причем, вычитав в какой-то здешней рецензии про полезность выписки на листочек всех действующих лиц, проделала в точности то же самое. Результат получился такой же плачевный, как и у предыдущего рецензента, — половина людей из списка буквально в следующей же части оказались мертвы! Осознав свою ошибку и посетовав на тщетность бытия, я решила: а, будь, что будет! — и дальше читала просто так, без всяких приколов, надеясь не столько на благоразумие автора, сколько на свою (эх) память. К счастью, все оказалось не так страшно.
Не скажу, что история настолько уж интересная, но, б-г мой, как же хорошо написано! Гениальный Томас Манн из гениальных слов составляет гениальные предложения. Я читала, восхищалась, наслаждалась и завидовала белой завистью, — правда, простите меня. Наверно, — это только лишь мое предположение, — легче всего пишется о том, что постоянно видишь и хорошо знаешь, поэтому не удивительно, что составляющие сюжета романа писатель черпал из своей жизни и жизни своей семьи. Любекский купец сенатор Томас Йоханн Генрих Манн — никого не напоминает? Продажа фирмы, продажа дома после его смерти... Впрочем, это только самая-самая основа, — сухой "бытийный" костяк одевается в прочную, здоровую (хотя о всяких болезнях автор любит распространяться не в меру) "художественную" плоть, — и вот, смотрите, Будденброки, Хагенштремы, Меллендорфы и прочие Кистенмакеры — ну как живые (что не мешало мне напрочь забыть кто из этих второстепенных кто и их появление тут и там на всем протяжении романа и мое непонимание, о ком же все-таки речь, пришлось принимать как досадную данность).
Главных героев, по сути, всего пять — Антония, Томас, Христиан, мать, как объединяющее (до поры) начало, и Ганно, как человек, долженствующий подвести черту. Кстати, по поводу черты, — по поводу "...я думал, дальше уже ничего не будет". Это было очень, очень прозрачно, так просто, что граничило с неосторожностью. Мы ведь знаем, из заголовка знаем, к чему все идет, и только самые нежные, самые чистые души, набредя на этот прием, могут всплеснуть руками и сказать: "Ах, какое предвидение!" — остальные же увидят в этом лишь некоторую неопытность автора. Нет, это не плохо, но немного как бы вымученно, наивно, безыскусно. Я так говорю еще потому, что мои представления о сюжете романа сыграли со мной в каком-то роде злую шутку. Если бы я знала, если бы я знала, что все так закончится! Я же думала, что Ганно станет-таки музыкантом и довольно успешным музыкантом, виртуозом, гением, — так к чему, скажите, тогда такой надрыв? К черту этих Будденброков, к черту семейный круг, если из этого круга выйдет личность — и какая! Но гибель семейства здесь — действительно гибель, действительно всего (почти) семейства, безо всяких глупых метафор, как могло кое-кому показаться...
Многие осуждают Тони, говоря, что она тупая и несносная, что она предала свою первую любовь, насильно и неудачно женила дочь, и все в таком роде. Бесспорно, это так, но все-таки, при всех ее недостатках, при всей ее суетности, высокомерности и страстном желании быть "аристократичнее", она жертва. Жертва обстоятельств, жертва происхождения, в какой-то мере, — жертва собственного отца. С детства ей вскружили голову важностью фамилии, честью рода, пресловутыми и на все лады превозносимыми "интересами фирмы", и она, не так по глупости своей, как подталкиваемая со всех сторон на этот, казалось бы, удачный и благотворный шаг, кладет свою будущность на коммерческо-общественный алтарь. Механизм запущен. Несмотря на бесчисленные и «отрезвляющие» горести, подобную установку г-жа Антония пронесет через всю жизнь, вполне с ней освоившись и сделав бездумное служение "семье" частью своей натуры. Христиан же, являясь человеком весьма своеобразным, на семью, на фирму, просто-напросто, плюет и, хоть и не отвергает совсем коммерцию, перебивается случайными заработками, околачивается в клубах и в театрах, травит байки, ругается с братом и болезненно прислушивается к своим ощущением, что выливается сначала в разного рода физические недомогания, а потом переходит в натуральнейшее сумасшествие. Но ведь и он заслуживает сострадания — позорник, не подходящий под "идеалы". Томас — вроде бы, более удачливый и твердо стоящий на ногах будденброковский отпрыск, но его размышления о том, "кто же он, Томас Будденброк, — делец, человек действия или томимый сомнениями интеллигент", хоть он и отмахивается от них всячески, — первый, тихонький, тоненький, но настойчивый звоночек, что, может быть, и он идет не туда. И вот, достигнув всего (а выше головы не прыгнешь), он, все-таки пессимист по своей сути, как бы искусно не притворялся, — вот эта его ирония, эта насмешечка — вернейший признак, — вдруг испугался, испугался, и чего — домысла, нелепого умозрения, что, дескать, дальше уже некуда, теперь — только вниз. Все больше и больше путаясь в экзистенциальных вопросах, несчастный сенатор нападает на книжечку Шопенгауэра (а Томас Манн, заметьте, ставит эту «Мир как воля и представление» в один ряд с Девятой симфонией («Тонио Крегер»)) и — вот так неожиданность! — почти прочитывает ее. Почти прочитывает и почти получает ответ, — когда его предки и смотреть бы на подобную ерунду не стали. Но "проверить себя" в виду близости собственной кончины ему не удастся (кто знает, может быть, это и к лучшему), — все, что его так занимало, смерть, негодяйка, обращает в ничто, — после обморока на мостовой сенатор так и не придет в полное сознание и, так до смешного тщательно следивший за своим внешним обликом при жизни, отойдет в мир иной, прямо скажем, не в лучшем виде.
Мне не было жалко маленького Ганно, мне было жалко себя, потому что его музыкальная фигура сулила появление в тексте так горячо любимых Манном септим, терций, квинт-секст-аккордов и еще бог знает чего, чего я никогда не понимала и никогда уже не пойму. С зубовным скрежетом вспоминаю здесь "Доктора Фаустуса", внушившего мне некоторое отвращение не только к "музыке Манна", но и к музыке вообще — как к искусству для избранных. Ну пусть я стою "в преддверии храма" со своим свиным рылом, но зачем же "презрительным мановением руки" и меня оттуда изгонять, если Герда, заявив свое исключительное право на музыку (и на сына), — была не права, и читатель и автор это прекрасно понимают? Томас Манн, в этом плане ты — волк в овечьей шкуре. И все же я чувствовала, что с такими задатками у юного Иоганна ничего не выйдет. Та глупая мысль, что он все-таки кем-то станет, вступала в противоречие с кое-какими моими собственными размышлениями и наблюдениями. Как это ни печально, на лицо — абсолютная неприспособленность к жизни, душевная неприспособленность к «борьбе», хотя с «преодолением» мальчик знаком не понаслышке. На вопрос: «Хочешь ты стать коммерсантом?» — ребенок отвечает «да» не потому, что он действительно хочет им стать, а только потому что за «нет» последует если не гнев, то всеобщее изумление, а тут же и другой вопрос: «А кем ты хочешь стать?» — боюсь, что для мальчика неразрешимый. И вот когда на школьном дворе он высказал своему аристократическому другу из сказки о Снежной королеве все свои сомнительные жизненные перспективы, я поняла, что сейчас мне дадут или разгадку и направление к действию, или стандартный в таком случае вариант — смерть. Но какие тут разгадки, какие тут действия, если нет почвы под ногами, если мать холодна, как лед, если отец, и так человек получужой, — под могильной плитой чуждый вдвойне, а собственные силы — ничтожны? И музыка, как бы она ни была хороша и отрадна, в этом случае — род отравы. Остальные милы, но годятся только для того, чтобы раз в сколько-то страниц заявлять о себе, как о многообразной суетности мира, — собраться на торжественный обед/именины/крестины/похороны, обсудить то или иное биржевое/городское событие, поглумиться над очередным неудачным браком Антонии, отметить рождество, как в бергмановском "Фанни и Александре", и в конце концов, выдвинув вперед горбатенькую старушку, провозгласить божественную истину.
Манн смотрит на своих героев свысока, — да, впрочем, так и надо, писатель — демиург, вершитель судеб — должен быть чуть-чуть выше "их всех", — и немножко с юмором, но порою, что называется, совсем в лоб, а иногда с таким легким, почти неуловимым, просто замечательным. Клотильда? Кузины Фридерика, Генриетта и толстушка Пфиффи? Петер Дельман? Демонический маклер Гош? Ну, грешно смеяться над убогими. А вот, посмотрите, какая прелесть: Антония, перебывав во всех своих "обличиях" — будучи сначала Тони, потом мадам Грюнлих, потом г-жой Перманедер, время от времени, к случаю, произносит фразы, однажды слышанные ею на травемюндском взморье от студента Шварцкопфа. Причем, что интересно, все, абсолютно все мысли студента рано или поздно, в подходящих обстоятельствах, ею были высказаны. К тому же, это еще очень характерно. Под конец Манн оттянулся забористым описанием мУзЫкИ, хотя, к его чести, не стал слишком уж мучить читателя терминами. И оттянулся дважды — доставив себе, надо думать, неизмеримое удовольствие полунаучной главой о тифе. Вообще, сложилось впечатление, будто, при всем растекании мыслию, автор чего-то не договаривает, и нет, не скрывает, а не может сказать. Не знаю, почему так. А депрессивная-то вещица, эти ваши «Будденброки»! Хоть и про гибель семейства, но не думала я, что все будет настолько жестко… Но их история меня чем-то зацепила, и, может быть, когда-нибудь я к ней вернусь — уже без иллюзий и будучи чуть умнее.
А, да, хотите анекдот? Оба брата едут на отдых на море, а там Сетт... то есть маклер Гош пьет грог. Маклер Гош переводит на немецкий язык полное собрание пьес Лопе де Вега, и что-то мне это собрание смутно напоминает одну многотомную "Социологию страданий"... А тульский портсигар — с тройкой, а малайские скулы некой особы, а "Фауст" Гете, а портер за завтраком?.. И "Волшебный рог мальчика", — но это уже из другой области. Да вы новеллы почитайте — там этого всего навалом.
П.С. Без иллюзий и будучи чуть умнее копирую сюда эту рецензию. Отвратительные умозаключения. Надо было публиковать раньше, ахаха.