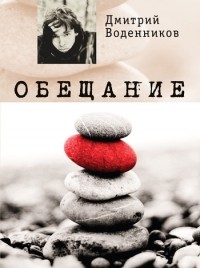Больше рецензий
26 января 2022 г. 23:21
159
5 Шелуха слов и небесный свет
РецензияНа месте Аленушки остался бы с чудом-юдом. В том его зачарованном виде. Быть добровольным пленником чудища и одновременно его не бояться и быть им любимым – вот оно настоящее горькое счастье. Настоящий красный цветок.
— За всё про всё одна лишь просьба есть:
за то, что мы не были и не будем —
люби меня таким, каким я есть,
таким–каким–я–нет — меня другие любят.
Мне Воденников очень понравился. Его стихи - жгучая пряная хмельная почти ядовитая смесь детской искренности, женского истеризма и мужского нарциссизма. Какая-то мужская "Настасья Филипповна" этот Дмитрий Воденников. Дориан Грей русской современной поэзии.
Череда цитат предшественников, каких-то полумифических влюбленностей помноженных на одиночество, конвульсии мистического пафоса и поиска смысла жизни, а если быть точнее - смысла смерти.
От самовосхищения он переходит к безжалостным заключениям о себе, страху одиночества, старости и ищет выход в стихах на уровне скандала и бреда. Иногда в самоосуждении:
Как раз мать–мачеха так дымно зацвела,
и в длинных сумерках я вышел из машины
( она была чужая, но была!)…
…И в этот год, и в этот синий час —
(как водится со мной: в последний раз )
мне снова захотелось быть — любимым.Но я растер на пыльные ладони
весь это первый, мокрый, лживый цвет:
того, что надо мне, — того на свете нет,
но я хочу, чтоб ты меня — запомнил…— Ведь это я, я десять раз на дню,
катавший пальцами, как мякиш или глину,
одну большую мысль, что я тебя люблю,
(хоть эта мысль мне — невыносима),
стою сейчас — в куриной слепоте
(я, понимавший все так медленно, но ясно)
в протертых джинсах,
не в своем уме.
Иногда в мучительной болезненной нежности к "любимым теням":
Но я ещё прижмусь к тебе — спиной
Но я ещё прижмусь к тебе — спиной,
и в этой — белой, смуглой — колыбели —
я, тот, который — всех сильней — с тобой,
я — стану — всех печальней и слабее...А ты гордись, что в наши времена —
горчайших яблок, поздних подозрений —
тебе достался целый мир, и я,
и густо–розовый
безвременник осенний.Я развернусь лицом к тебе — опять,
и — полный нежности, тревоги и печали —
скажу: «Не знали мы,
что значит — погибать,
не знали мы, а вот теперь — узнали».И я скажу: «За эти времена,
за гулкость яблок и за вкус утраты —
не как любовника —
(как мать, как дочь, сестра!) —
как современника — утешь меня, как брата».И я скажу тебе,
что я тебя — люблю,
и я скажу тебе, что ты — моё спасенье,
что мы погибли (я понятно — говорю?),
но — сдерживали — гибель — как умели.
И за это неверие в себя, можно простить ему даже излишнюю самоуверенность, излишнее любование собственными дарами:
Я быть собою больше не могу:
отдай мне этот воробьиный рай,
трамвай в Сокольниках, мой детский ад отдай
(а если не отдашь — то украду).Я сам — где одуванчики присели,
где школьники меня хотят убить —
учитывая эту зелень, зелень,
я столько раз был лучше и честнее,
а столько раз счастливей мог бы быть.Но вот теперь — за май и шарик голубой,
что крутится, вертится, словно больной,
за эту роскошную, пылкую, свежую пыль,
за то, что я никого не любил,
за то, что баб Тату и маму топчу —
я никому ничего не прощу.Я всё наврал — я только хуже был,
и то, что шариком игрался голубым,
и парк Сокольники, и Яузу мою,
которую боюсь, а не люблю, —
не пощади и мне не отдавай
(весь этот воробьиный, страшный рай).
Но пощади — кого–нибудь из них,
таких доверчивых, желанных, заводных.
Но видишь ли, взамен такой растрате
я мало что могу тебе отдати.Не дай взамен — жить в сумасшедшем доме,
не напиши тюрьмы мне на ладони.
Я очень славы и любви хочу.
Так пусть не будет славы и любви,
а только одуванчики в крови.О Господи, когда ж я отцвету,
когда я в свитере взбесившемся увяну —
так неужель и впрямь я лучше стану,
как воробей смирившийся в грозу?
Но если — кто–нибудь — всю эту ложь разрушит,
и жизнь полезет, как она была
(как ночью лезут перья из подушек),
каким же легким и дырявым стану я,
каким раздавленным, огромным, безоружным.
Наверное, потому что оправдывая его лирического героя, ты себя оправдываешь, свое неумение отдавать, свой страх смерти, свое любовное равнодушие:
Я ничего еще не отдавал:
ни голову, ни родину, ни руку —
ну может быть какой–то смерти мелкой
[а может быть какой–то смерти крупной],
я выпустил из рук горящей белкой
[я выронил ее купюрой круглой], —
но я по–крупному — не отдавал.Так пахнет ливнем летняя земля,
я не пойму, чего боялся я:
ну я умру, ну вы умрете,
ну отвернетесь от меня —
какая разница.Ведь как подумаешь, как непрерывна жизнь:
не перервать ее, не отложить —
а все равно ж — придется дальше жить.Но если это так (а это точно так),
из этого всего:
из этой жизни мелкой
[а может быть, из этой жизни крупной],
из языка, запачканного ложью,
ну и, конечно, из меня, меня —
я постараюсь сделать все, что можно,
но большего не требуй от меня.
Потому что за всем этим стоит небесный свет, который больше, лучше и чище нас, заливающий все - светящийся и в природе, и в любимом лице, и в поэзии, даже когда ты их теряешь:
.
.. Мы стоим на апрельской горе — в крепкосшитых дурацких пальто,
Оля, Настя и Рома, и Петя и Саша, и хрен знает кто:
с ноутбуком, с мобильным, в березовой роще, небесным столбом,
с запрокинутым к небу прозрачным любимым лицом
(потому что все люди — с любимыми лицами — в небо столбы).
Я вас всех научу — говорить с воробьиной горы.