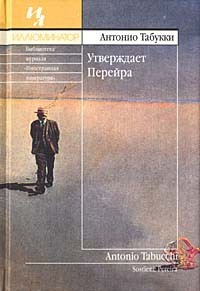Больше рецензий
7 октября 2021 г. 11:53
375
5
РецензияКажется, что философия занимается поисками истины, но на самом деле она, вероятно, лишь фантазирует не сей счёт, в то время как литература при помощи одной лишь фантазии, скорее всего, и открывает истину.
Трудно держаться определённых принципов, когда речь заходит о логике сердца, утверждает Перейра.
Подобно Пнину, меня очаровал главный герой. Логичный, достоверный, живой человек, согласующийся не только с обстоятельствами, но и со своим характером, привычками, навыками. Обычный человек без свехспособностей и свехзадач, не возвышающийся над обыденностью и толпой, не ведущий на баррикады и не заслоняющий грудью соратников и не умирающий пафосно за идею. Человек, смогший избежать выбора из максимы "лучше смиренно жить в ожидании чего-то, чем погибнуть в борьбе за это", остаться верным самому себе и собственным взглядам. Недостижимый идеал человека, проявившего выдержку, спокойствие, зрелость в чудовищных обстоятельствах.
Салазаровская Португалия, estado novo, 1938 год. Редактор отдела культуры в небольшой, но "независимой" газете "Лисабон" (именно так, с одной "с" было в моей книге, очень смущало) доктор Перейра, толстый вдовец с больным сердцем, хранящий верность не только своей умершей жене, но и литературе, культуре, принципам гуманизма и человеколюбия, имея устоявшийся жизненный уклад и вполне трезвый взгляд на самого себя, вместе с тем весьма далёк от любых видов и способов выражения несогласия с общественно-политической ситуацией. Он, как бы это сказать, намеренно запер себя в башне из слоновой кости и не собирается покидать её пределов, понимая, что любое выражение протеста не то, чтобы опасно или чревато, скорее бессмысленно (
ты что, веришь в общественное мнение, так знай, что общественное мнение - это трюк, который изобрели англосаксы, англичане и американцы, это они засирают нам мозги, прости за грубое слово, своими идеями насчёт общественного мнения, у нас никогда не было такой политической системы, как у них, у нас другие традиции, мы не знаем, что такое trade unions, мы южные люди, Перейра, и слушаемся того, кто громче кричит и кто командует
). Он принадлежит, говоря словами Перейры, "молчаливой оппозиции", на реплику случайной попутчицы немки-еврейки-португалки Ингеборг Дельгадо:
...вы же мыслящий человек, вот и скажите о том, что происходит в Европе, выскажите своё свободное суждение, словом, сделайте что-нибудь. Я постараюсь, сеньора Дельгадо, но это очень непросто в такой стране, как Португалия, и для такого человека, как я, я -не Томас Манн, а безвестный редактор страницы культуры в скромной вечерней газете... и у нас, в нашей маленькой стране, есть своя оппозиция, правда, оппозиция эта молчаливая, быть может потому, что у нас нет своего Томаса Манна, но молчать-то мы как раз умеем.
И вместе с тем, внутренний непокой, постоянное ощущение неправильности происходящего, чтение и перевод любимых Перейрой французских писателей, разговоры с доктором, священником, молодым итальянским коммунистом Монтейру Росси и его подругой и единомышленницей Мартой, даже требования главного редактора газеты, короткие диалоги с консьержкой и официантом в ресторане, всё вело Перейру к совершению акта неповиновения.
Три произведения французских католических авторов, отражающих внутреннее состояние Перейры, его поступательное движение к выходу из "молчаливой оппозиции": Оноре де Бальзак - Онорина (книга о раскаянии, как её определил Перейра), Альфонс Доде - Последний урок (Рассказ мальчика-эльзасца) (рассказ о выражении свободной воли, по утверждению Перейры) и "Большие кладбища под луной" Жоржа Бернаноса (эссе о принятии и поощрении беззакония и насилия католическими священниками, утверждает Перейра).
Не могу сказать хорошо или плохо написана книга, она увлекла и отозвалась настолько сильно, что я даже не заметила, как она кончилась. Конечно, я прочитала её дважды, особенно после рассказа автора о том, что Перейра - это не совсем вымышленный персонаж, а потом прочитала всё, что в книге читал и переводил Перейра, чтобы стать Перейрой. Я не могу стать толстым вдовцом с больным сердцем, доктором филологии, изнывающем от жары летом 1938 года в Лиссабоне, но автор, Антонио Табукки, итальянский португалец, утверждает, что компромисс, на который не пошёл однажды, может стать основанием чувствовать себя человеком всю жизнь.