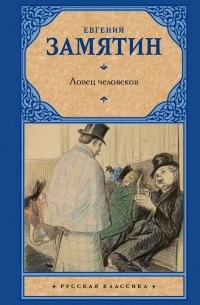Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
2. Картофельный Рафаэль
– Их преосходительства господина коменданта нету дома.
– Да ты, братец, узнай хорошенько. Скажи, мол, поручик Половец. Половец, Андрей Иваныч.
– Полове-ец?
У денщика генеральского – не лицо, а начищенный самовар медный: до того круглое, до того лоснится. И был себе самовар заглохший, а тут вдруг начал пузыриться, закипать:
– Полове-ец? Ах-и-батюшки, позабыл я, дома они. Половец – ну как же: – дома, пожалте. Только заняты малость.
Денщик отворил из сеней дверь налево. Андрей Иваныч нагнулся, вошел. «Да нет… да может, не туда?»
Дым коромыслом, чад, суета, шипит что-то, луком жареным пахнет…
– Кто та-ам? Поближе, поближе, не слы-ы-шу!
Андрей Иваныч шагнул поближе:
– Честь имею явиться вашему превосходительству…
Да черт-те возьми: да уж он ли это, генерал ли? Передник кухарский и беременное пузо, подпертое коротышками-ножками. Голая, пучеглазая, лягушачья голова. И весь разлатый, растопыренный, лягва огромадная, – может, под платьем-то и пузо даже пестрое, бело-зелеными пятнами.
– Явиться? Гм, хорошее дело, хорошее дело… офицеров у меня мало. Запивох – это сколько угодно, – буркнул генерал.
И опять занялся своим делом: тонкими на диво ломтиками кромсал крупичатый белый картофель. Нарезал, вытер фартуком руки, сигнул бочком к Андрею Иванычу, уставился, обглядел и закричал сердито, снизу откуда-то, как водяной из бучила:
– Ну, что за нелегкая сюда занесла? Майн-Ридов начитался, а? Сидел бы себе, голубеночек, в России, у мамаши под подолом, чего бы лучше. Ну что, ну зачем? Возись тут потом с вами!..
Андрей Иваныч оробел даже: уж очень сразу наскочил генерал.
– Я, ваше превосходительство… Я в Тамбове… А тут, думаю, море… Китайцы тут…
– Ту-ут! Едут сюда, думают тут…
Но не кончил генерал: зашипело что-то на плите предсмертным шипом, закурился пар, паленым запахло. Мигом генерал пересигнул туда и кого-то засыпал, в землю вбил забористой руганью.
Тут только оглядел Андрей Иваныч поваренка-китайца в синей кофте-курме: стоял он перед генералом, как робкий звереныш какой-то на задних лапках.
– Р-раз, – и чмокнулась в поваренка звонкая оплеуха.
А он – ничего: потер только косые свои глаза кулачками, чудно так, быстро, по-заячьи.
Отдувался генерал, плескалось под фартуком его пузо.
– Уф-ф! Замучили, в лоск. Не умеют, ни бельмеса не смыслят: только отвернись – такого настряпают… А я смерть не люблю, когда обед так вот, шата-валя, без настроения варганят. Пища, касатик, дар Божий… Как это, бишь, учили-то нас: не для того едим, чтобы жить, а для того живем, чтобы… Или как бишь?
Андрей Иваныч молча во все глаза глядел. Генерал взял салфетку и любовно так, бережно, перетирал тонкие ломтики картофеля.
– Картошка вот, да. Шваркнул, мол, ее на сковородку и зажарил, как попало? Вот… А которому человеку от Бога талант даден, тот понимает, что в масле ни в ко-ем слу-чае… Да в масле? Да избави тебя Бог! Во фритюре – обязательно, непременно, запомни, запиши, брат – во фритюре, раз-на-всегда.
Генерал взял лимон, выжимал сок на ломтики картофеля, Андрей Иваныч насмелел и спросил:
– А зачем же, ваше превосходительство, лимон?
Видимо, пронзило генерала такое невежество. Отпрыгнул, орет откуда-то снизу – водяной со дна из бучила:
– Ка-ак зачем? Да без этого ерунда выйдет, профанация. А покропи, а сухо-насухо вытри, а поджарь во фритюре… Картофель a la lyona se – слыхал? Ну, куда-а вам! Сокровище, перл, Рафаэль! А из чего? Из простой картошки, из бросовой вещи. Вот, миленок, искусство что значит, творчество, да…
«Картошка, Рафаэль, что за чушь! Шутит он?» – поглядел Андрей Иваныч.
Нет, не шутит. И даже – видать еще вот и сейчас – под пеплом лица мигает и тухнет человечье, далекое.
«…Пусть картофельный, – хоть картофельный Рафаэль».
Андрей Иваныч поклонился генералу, генерал крикнул:
– Ларька, проводи их к генеральше. До свидания, голубенок, до свидания…
Бывают в лесу поляны – порубки: остались никчемушние три дерева, и от них только хуже еще, пустее. Так, вот, и зал генеральский: редкие стулья; как бельмо – на стене полковая группа. И как-то некстати, ни к чему, – приткнулась генеральша посередь зала на венском диванчике.
С генеральшей сидел капитан Нечеса. Нечесу Андрей Иваныч уже знал: запомнил еще вчера всклоченную его бороду в крошках. Поклонился генеральше, поцеловал Андрей Иваныч протянутую руку.
Генеральша переложила стаканчик с чем-то красным из левой руки опять в правую и сказала поручику, однотонно, глядя мимо:
– Садитесь, я вас – давно – не видала.
«…То есть как – давно не видала?»
И сразу сбила с панталыку Андрея Иваныча, выскочила из головы у него вся приготовленная речь.
Капитан Нечеса, кончая какой-то разговор, пролаял хрипло:
– Так вот-с, дозвольте вас просить – в крестные-то, уж уважьте…
Генеральша отпила, глаза были далеко – не слыхала. Сказала – ни к селу ни к городу – о чем-то о своем:
– У поручика Молочки пошли бородавки на руках. Кабы еще на руках, а то по всему по телу… Ужасно неприятно – бородавки.
Как сказала она «бородавки» – так за спиной у Андрея Иваныча что-то шмыгнуло, фыркнуло. Оглянулся он – и увидал позади, в дверной щели, чей-то глаз и веснущатый нос.
Капитан Нечеса повторил умильно:
– …Уважьте – в крестные-то!
Должно быть теперь услыхала генеральша. Засмеялась невесело, треснуто – и все смеется, все смеется, никак не перестанет. Еле выговорила, к Андрею Иванычу обернувшись:
– Девятым, разрешилась капитанша Нечеса, – девятым. Пойдемте со мной, – в крестные отцы?
Капитан Нечеса закомкал свою бороду:
– Да, матушка, простите Христа ради. Уж есть ведь крестный-то. Жилец мой, поручик Тихмень, обещано ему давно…
Но генеральша уж опять не слыхала, опять – мимо глядела, прихлебывала из стаканчика…
Андрей Иваныч и капитан Нечеса ушли вместе. Хлюпала под ногами мокреть, капелью садился на крыши туман и падал оттуда на фуражки, на погоны, за шею.
– Отчего она какая-то такая… странная, что ли? – спросил Андрей Иваныч,
– Генеральша-то? Господи, хорошая баба была. Ведь я тут двадцать лет, как пять пальцев вот… Ну, вышла такая история – да лет семь уж, давно! – младенец у ней родился – первый и последний, родился да и помер. Задумалась она тогда – да так вот задуманной и осталась. А как опомнится – такое иной раз, ей-богу, ляпнет… Да вот – Молочко, бородавки-то: и смех ведь, и грех!
– Ничего не понимаю.
– Поживете – поймете.