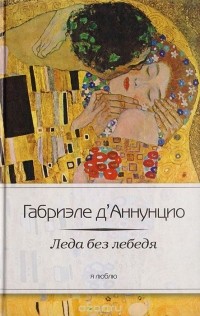Больше рецензий
4 августа 2018 г. 14:46
4K
4.5 Царевна-Лебедь
РецензияРуки милой - пара лебедей -
В золоте волос моих ныряют.
Все на этом свете из людей
Песнь любви поют и повторяют.
Сергей Есенин.
Андрей Тарковский, заметил однажды о любви, что она для мужчины тяжёлая болезнь, подобная почти апокалиптическому потрясению.
И правда, для женщины любовь - это скорее выздоровление после экзистенциальной боли томления по вечному, это нежная заря нового мира, где в отливе ночи, обнажаются голубые, лиловые камушки планет и лун, тихие ракушки галактик...
Жизнь и любовь для женщины тепло и мучительно-сладко сливаются, и потому, утратить любовь для женщины - сродни утрате жизни и призрачному существовании на девственной земле, светло и каре шумящей дикой травою звёзд.
Для мужчины любовь - это грустная, осыпающаяся звёздами бездна ночи, с лебединым росплеском лиловых крыльев зари.
И вот, по бездне вод, по звёздам, словно в ненаписанном стихе Гумилёва, к нему идёт она, женщина, ангел.
Что для него планеты, люди и самая Земля?
Она словно бы уже кончилась, людей на ней... уже нет, а есть лишь она - любимая.
Но сможет ли он пойти к ней навстречу по бездне вод? Это привилегия женщины, которая умирает и воскресает в любви.
Я искренне не понимаю как можно писать о любви ( для этого нужно чуточку умереть, как иногда бывает в любви - для женщины, и во вдохновении - для мужчин, пропеть лебединую песнь, протянув к небесам, к другой руке, белую руку, словно стройную лебединую шею), которая каждый миг блаженно-разная, как лиственное марево под солнцем, где карие веточки дрожаще и слепо уходят в вечернее небо грустной далью дорог, где хрупким миражом, словно уставшая женщина, присевшая возле дороги в шафранной юбке, колышется на ветру цветком королёк...
Цветок поёт, словно нежный язычник, молится солнцу и ветру, и вот, любовь побеждает законы природы, пёстрый цветок вспархивает в небо, целует небо и солнце своими крыльями-лепестками, а солнце, в каком-то сострадании света, тихо склоняется лилией, намокшей синевой, легко и обморочно кружится над землёй, падает, касаясь счастливого королька...
Я искренне не понимаю, как можно писать рецензию на прозу, поющей стихами, где сюжет похож на прозрачный шёпот теней на стекле от листвы за окном.
Для этого нужно открыть "окно", впустить тени к себе, дабы они зажурчали по твоему лицу, телу, протянутым к ним рукам... для этого нужно создать самостоятельные образы, чувства, дабы чувства, сердце, зашептались тенями в ответ, и тени, соприкоснувшись, поцеловались.
Это не проза, это какой-то медленно струящийся янтарь al dente, солнечно-вязкой каплей стекающий по грозовой коре вечера, вбирая в себя блаженные мелочи жизни: "гусениц, стремящихся в вечность", листочки, муравья, звёзды и... лиловые ноготки женщины, похожие на дышащие крылья мотылька.
Женщина - спиной к прибою вечера, её пальцы - в медовом, солнечном соку, уста любимого - порхают слепым, лиловым мотыльком, вязнут, сладко вязнут в лиловых пальцах, словно в высоких, прозрачных молодых листочках, пронизанных зарёй, обмокнутых в зарю...
Две руки сплелись в небе - две лебединые шеи...
Проза Аннунцио - это какая-то райская флористика желания: ангел-эстет любовался полотнами Боттичелли, Уотерхауса.. вот, крыло проникает в живое марево горизонта красок, срывает цветы на крылатой, матовой дали картин Боттичелли, словно бы размаянной от солнца и склонившейся на землю тихими, синими цветами.
Чем пахнет сердце женщины?
Мне однажды приснилось, что сердце женщины - прекрасная роза.
Я склонился над ней, и женщина, словно туманец вуали, в нежнейшем и безгрешном эротизме, приоткрыв не свою одежду на груди, но самую свою грудь, бледную плоть - при этом она словно бы расстегнула её, а роль пуговок, играли маленькие, лиловые, сладостно-гладкие пульсации, - и вот, прильнув к цветущему, тёплому сердцу женщины, я глубоко вдохнул его сиренево-карий аромат...
Чем оно пахло? вечером, росой, морем и птицей.
Опьянённый ароматом сердца, каким-то алым, большим глотком вобрав его в себя, я поцеловал сердце женщины, тихо коснувшись его, как язычник касается земли, как христианин свершает таинство причащения.
Сердце женщины было бокалом вина, её белое тело - хлебом, к которому в избытке нежности я нежно прильнул губами, оставив прозрачный, тающий след зубов на её шее, под кожей которой тепло и шёлково ласкался, плескался пульс, словно бы смешивая вино и хлеб, солнце и кровь.
Аннунцио пишет, что в одной старой лавке он видел распятие без креста: к чему приложишь его, то словно бы и распято.
Прекрасная аллегория любви, сердца и бога в нашем грустном мире!
Есть в жизни такие мгновения, когда чувствуешь сердце в себе, больше себя, всё твоё бытие словно бы тепло перетекает в сердце, и, беззащитное, бьётся оно навстречу любимому ли человеку, миру ли, ночи...
Лежишь в поле среди ночи... нет тела, одно лишь сердце, распятое среди цветов. Пропустишь стебелёк цветка между пальцев - сорвать цветок в ночи, когда он молится звёздам, когда он доверчиво беззащитен - грех, - и на раскрытой ладони чувствуешь влажный, нежный вес цветка, словно живую стигмату любви: ладонь истекает, сочится ночью, цветком...
Вот, к твоему сердцу в ночи подходит женщина, склоняется... словно вино, берёт стебелёк бокала меж пальцев, ненароком срывает, подносит к устам.
Женщина лежит среди ночи и цветов. На её груди - моё сердце. Смотрит в ветер и звёзды, пальцы, задумчиво перебирают лепестки сердцебиений, чем-то похожие на алые, пересохшие губы...
Слёзы блестят на глазах женщины. Её руки, размётаны крестом среди цветов. Моё сердце - распято на женщине.
Меня в мире не было, никого в мире не было, а была она, и моё обнажённое сердце, и колоски срывающихся звёзд...
Мне снилось, что она тихо сняла моё сердце с груди, словно задремавшего младенца, привстала, на миг замерла в какой-то до боли знакомой позе Пьеты, принесла моё сердце домой, и положила его гербарием между страниц какого-то итальянского писателя, и закрыла книгу - прирученный склеп, где женщина хранит умершие надежды.
Боже, как невыносимо грустно зарыдали звёзды, ветер, цветы!
Словно призрак, я видел свою смерть со стороны, но это не была только моя смерть, это была смерть любви на земле.
Ах, если бы любви, сердце и богов было столько же, сколько и крестов, но нет, их слишком мало, трагически мало: незамеченным призраком я подходил к каким-то теням в ночи, приникал к их груди, но не слышал там сердца.
Я был в опустевших храмах, с заросшими небом и солнцем витражами, и не видел там бога.
Тогда я понял, что любовь на земле умерла, а вместе с нею умерли мир, сердце и боги.
Звёзды перестали плакать, но ещё слезились тихим, радужным светом, как иногда слёзы блестят на ресницах женщины, которая открыв какую-то милую книгу, перестала плакать, улыбнувшись, вспомнив о чём-то нежном.
Вот, женщина прочитала вслух какую-то тёмную, нежную строчку, словно заупокойную молитву, провела пальцами по тихим, бледным страницам, словно по лицу умершего человека, и закрыла книгу, навсегда.
Аннунцио пишет, что когда мы засыпаем, засыпает гениальный волшебник, творя свои звёздные миры.
Но человек не спит с начала мира, ибо сам мир - чей-то тревожный сон.
Сама любовь - сон задремавшего бога, ли, ангела ли.., сон, который видят многие из нас, словно бы на миг пробуждаясь в любви, щурясь карим сердцем на сияние мира, смутно чувствуя в груди такую нежность, равную звёздам, планетам в цвету... в этой нежности сливаются человек и звёзды, словно мир был только что сотворён, он ещё не остыл и сладко прозрачен..
Но почему мужчина иногда плачет во сне? Что ему снится? Может, последний, пророческий сон на Земле, что однажды приснится всему человечеству, озадачив и сведя с ума религии и науки?
Мне снилось, что была в мире женщина, ангел-лебедь, идущий по берегу моря, сквозь века, с карими крыльями за спиной, её душа была блаженно слита с искусством, она сочилась янтарным, медленным светом со строчек стихов, ресниц незнакомки, мелодий, картин Боттичелли и Врубеля.. люди убивали друг друга, себя, порок объял землю и безрассветная тьма спустилась на пылающие города, а Царевна-Лебедь оглянулась с грустной улыбкой на всё это, и ушла в море и звёзды.
А что же мужчины? Что я? В своей суете, гордыне, жестокости, мы прошли мимо неё, не сказав заветное "люблю" незнакомке ли, ночи ли, стихам...
Андрей Платонов где-то писал о боге, мировой душе... возможно, они и правда существовали, может, недолго, в каком-то обнажённом и молящем бытии, возможно, эта мировая душа сидела маленьким насекомым на паскалевой, бредящей на вечернем ветру былинке, но человек прошёл мимо это былинки, или наступил на неё, а возможно, и съел её, в своём ненасытном чревоугодии.
Леда без лебедя...это томление, моление мужчины о женщине, как о последнем, живом и тёплом отблеске мировой души, к которому не только мужчина, но и человечество не сказало однажды "люблю", пройдя мимо него, в своей гордыне, думая, что мировая душа и бог - это нечто иное.
Да, иное, если... если бы мы склонились над той самой былинкой, если бы поцеловали сердце женщины, раскачивающееся в ветре ночи похлеще былинки Паскаля.
Блоковской Незнакомкой душа, красота женщины реет по миру, зовёт нас в туманные, талые дали из синих глаз искусства, любви... Так, обернувшись к нам душой, смотрит на человеческий, закатный мир, врубелевская Царевна-Лебедь.
Совершенно химерический, солнечный градус письма Аннунцио; фресковая размётанность мыслей и образов ( виноградная лоза трещинок времени тянется к солнцу, обвивая краски..).
Образы, отсылки к творениям живописи, музыки, мифов, цветут янтарным обмороком слов, душа мужчины почти сомнамбулически реет над бездной прошлого, времён, сужая бледную скорость кругов, приближаясь к тайне женщины в анималистических образах-метаморфозах коня, собаки, рыбы, быка, лебедя...
С чисто феминистической точки зрения, хорошо было бы не упустить некую оскоминку возмущения: к женщине боги для обладания ими нисходили в образах животных, подчёркивая нечто животное, бестическое в ней, словно бы заходя к женщине с чёрного входа её вожделения, даже и не думая появиться, ошеломить её в невозможном, ангелическом образе, и что с того, что эти метаморфозы суть имена её желаний, защиты и глубинных чувств в полёте символа?
На полотнах позднего кватроченто, ангелы с крыльями лебедя за спиной, словно бы стыдятся их, склонив свой зардевшийся лик придворных поэтов перед Мадонной.
К слову сказать, образ Благовещенья, ангела и Марии, быть может есть смутный отблеск мифа о Леде и Лебеде.
Почему в живописи до сих пор не было изображения сближения Марии и Леды - не понятно, хотя белокрылый вихрь пред Марией - должен был испугать, ошеломить её: кто он - посланник рая, ада?
Тут судорога крыльев и Андрее-Платоновский, Достоевский кошмар насилия над богородицей и образ сокровенной влюблённости Марии в того ангела, что её покинул в ночи. Эту любовь она могла пронести через всю жизнь.
Вот, за тёмным углом строки, время, мысль, обрываются, и душа скитается по временам Фидия, Фра Анжелико, Бетховена... и везде, везде её приметы!
Мысль выплёскивается за свои берега, сливается с мыслями других писателей: Борхес, Гумилёв, Камю, Кьеркегор ( дневник обольщённого), Набоков...( сказав о том, что голова Аннунцио "восхитительно напоминает яйцо", Набоков, быть может, думал именно об этом произведении: Леда снесла яйцо, из которого родилась Елена Прекрасная. Из головы Аннунцио, словно из головы Зевса, выпорхнула уже не птица, но, зеркально отразившись - Леда без Лебедя.
Любители Набокова, зная об увлечении Набоковым творчеством Аннунцио, сладко будет увидеть пересечение их мыслей.
Красота её вошла мне в душу, словно заняв место, ей принадлежащее, как в свой футляр ложится редкая вещица, в оттиск - выпуклый рельеф
И зеркальная тишина этой мысли у Набокова:
Он отвык от неё, привыкнув к пустоте, имеющей её форму
Это образ не только утраченной женщины, но и самой истины, бога, в нашем безумном мире.
Это истина, боль на выдохе, когда я увидел её, мою Леду, на концерте музыки.
Но любить красоту и идеал женщины, облитой светом искусства, больше неё самой, это тот же грех перед жизнью, что и у Достоевского: нужно полюбить жизнь прежде её смысла.
И я был уже грешен перед ней в нашу первую встречу.
Смысл жизни, музыки... порою музыка, смычок, полоснувший по запястью скрипки, исторгает из нас боль, красоту, мы истекаем красотой и болью, а люди оглядываются на тебя, улыбаются, ничего не понимая...
Тогда на концерте я умирал, обретал тайный смысл жизни, пульса, как тепло и ласково набегающих волн музыки, мучительно-сладко накрывающих меня с головой, теряющей меня в мире, словно меня и не было, а было лишь моё чувство, странно блеснувшее на смычке, её глазах, вон в той звезде за окном...
Тайна Леды - тайна и боль самой женщины, жизни: в вечере её ресниц, словно первая, лёгкая звезда, дрожит слеза.
В муфте, на её руках, виден тёмный посверк пистолета...
Она почти не слышит, не понимает музыку, прислушиваясь к чему-то мучительному в себе: женщина - сама музыка, красота, разве может музыка видеть себя?
Потому женщина порой и влечётся к темному, инфернальному, порочно-безобразному, чтобы оттуда, словно с другого берега наслаждения, увидеть себя чистую, светлую.
В ней, в инфернальнице, таились разрушительные, гибельные силы, она словно бы пришла в этот мир чтобы мстить: мужчинам, миру.. себе?
Убьёт себя, и мир без красоты умрёт, пожрёт себя, утонув в самом тёмном разврате и зле.
Убьёт мужчину, мужчин... совратив их, словно сирена, как мальчишку Паоло она совратила, потом его полюбив...
Помните у Данте историю любви Паоло и Франчески?
Словно Адам и Ева, в конце мира останутся она, и её Паоло: больше нет ни одной женщины, ни одного мужчины!
Ах, об этом в тайне, хоть на миг, мечтает каждая женщина: чтобы любимый мужчина принадлежал лишь ей одной, тотально, обречённо...
Её история напоминала мне историю героинь Достоевского: сумрак детства, домогательства отца, больная любовь втроём, и рядом - словно древний змий и колдун, тот, кто влечёт её во тьму, торгует ею, кто связал её с собой чёрной тайной убийства: кто её расколдует, освободит?
Разве настоящего мужчину отпугнёт естество, порок или безумие в любимой? Джон Рёскин, самозабвенно преданный искусству, увидев у своей невесты волосы на лобке, пришёл в ужас и бросил её, т.к. в прекрасных статуях древности женщины были лишены этого...
Ах, лоно женщины - это ладони ангела, в которые он зачерпнул воды вечера...
Порою ладонь женщины, нежно наполняясь какой-то ручной, прирученной ночью и тьмой, покрывает глаза и сердце мужчины, и он сладостно, мучительно тонет в ладонях женщины...
Так я утонул в её ладонях...
Аннунцио был почитателем поэзии Перси Шелли, и потому в его творчестве сладко обнимаются свет и тьма, души влекутся к невозможному, пролетая над адом и раем, а мир задыхается и стонет от любви вод белоснежным, лебединым крылом западного ветра: мир томится по чистой, беззаветной и страстной любви, любовь, душа женщины, невесомо стекает карей капелькой насекомого вверх к небу, по былинке, бледной ряби лебединого крыла и алого, трепещущего надреза в бархатном сумраке воздуха: свеча у окна.
Это боль и томление женщины, жизни - чувствовать себя, красоту вокруг себя, в творениях искусства прошлого, и не мочь ощутить, коснуться себя, измолвившись и распрямившись всей этой поруганной красотою, в мир.
В искусстве миф о Леде и Лебеде пересказывался множество раз: Леонардо, Корреджо, Гюстав Моро, Пушкин, Ронсар ( проказник Ронсар вообще описал нечто танатостическое в своём жарком эротизме сонета:
Et son bec luy mit adonc
Dedans sa vermeille bouche.
бессознательное, тёмное желание мужчины обнажённо взглянуть лицом в лоно женщины, целиком в него погрузиться, сокрывшись в тёплой рассветной тьме, словно его и не было никогда, и он навеки смолк, смолкло насилие, привнесённое мужчиной в мир, опаля однажды тайные уста алой немотой распятого слова.
Но, если честно, фаллический символ шеи лебедя, извивающейся меж колен и груди кроткой, сопротивляющейся Леды, кажется до жути опошленным, т.к. за этим не видно сокровенного томления женщины, Леды.
Образ насилия Лебедя над Ледой, в образе Леды без Лебедя обретает не столько спиритуалистически-мастурбационный мотив холостого зачатия, жара томления в ночи любви на белоснежной ряби смятой простыни, истязания себя в ночи, сколько бесконечной жалости Леды к обречённому миру, т.к. в её одиноких ласках не рождалась Елена, как в мифе, Троя, не была охвачена огнём, мать Одиссея, Антиклея, не утопилась от горя в море, и Парис влюбился.... в кого?
Взгляните в вечер глаз Царевны-Лебедь Врубеля: она манит в ветвистый сумрак неведомого, в бездну крылатую, у неё жалостливая асексуальность к человеческой, холодной и идиотической в своих пороках и фантазиях, плоти, она желает чего-то неземного... зачать ли от солнца, отдаться ли ласкам прибоя, ветра ночного, звезды...
Лебедь - солнечная птица - а возможно и нет, Шелли считал иначе, - а значит, Леда, словно славянская Лебедь-Дева, придя к ночному морю, сбросив вместо одежды оперенье и крылья, ждала среди ночи его, чёрного лебедя, чья шея и голос так сладко похожи на изгибы и шипение змеи.
Словно Лилит, под спелой луною Гекаты, она сбросила перистую чешую своей кожи, роскошно обнажив своё сердце и душу, подставив алое сердце всем ветрам и ласке ночи.
Белое тело, словно отмель отлива... её бледные руки - пенная рябь, прозрачно омывают тело, скользя от шеи и груди, к животу, и ниже...
А где-то там, под ногами, сброшенная чешуя крыльев, колышется и лижет робкой лаской прибоя, голубым языком, словно верный пёс, её белые ноги.
Но что это? Крылья поднимаются, словно два тёмных паруса над бездной, кто-то ступает на бледный берег тела, рыдая, припадает на колени крыльев, крылья целуют белый, лунный, податливо-нежный песок, растекаются по нему, сжимая его руками: два бледных холмика с лиловыми капельками крови сверху ( осколки разбитого бокала из под вина в песке).
Простите... как обычно, желая сыграть на произведении, как на инструменте, на белых клавишах страниц, с тёмными клавишами строк посерёдке, я, кажется, исполняя тайную мелодию произведения, не заметил, что исполнил не Леду без Лебедя, а её зеркальное отражение: Лебедя без Леды....

Врубель - Царевна-Лебедь