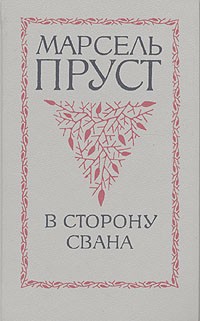Больше рецензий
7 февраля 2024 г. 12:40
741
0 А король-то голый
РецензияКогда на вопрос "Чем занимаешься?", отвечаешь "Читаю Пруста", – у людей так уважительно вытягиваются лица. Это забавно. Это тем забавнее, что никогда такой реакции не бывает ни на Томаса Манна ("А."), ни на Данте ("А."), ни даже на Джойса ("Кто это?"). Такая специфическая реакция случается исключительно на Пруста, потому что все знают: он написал нечто дико гениальное, но настолько же сложное, и читать его под силу только выдающемуся умнику.
В действительности ничего подобного нет. Чтение Пруста не требует ни большой эрудиции, как чтение Джойса, ни прокачанного абстрактного мышления, без которого не составишь себе целостной картины дантовского «Рая», ни терпения и дисциплины, каких требует Томас Манн. Единственная причина, почему Пруста трудно читать – он плохо пишет.
Первое – манера вставлять между словами одного предложения абзац, который можно было бы поместить раньше или потом:
Но я был до сих пор лишь на пути к вершине моего счастья; я вознесся на нее наконец (лишь в эту минуту осененный откровением, что не «величественные и грозные, как море, люди со сверкающими бронзой доспехами под складками кроваво-красных плащей» будут на следующей неделе, накануне Пасхи, прогуливаться по улицам Венеции, наполненным плеском волн и озаренным красноватым отблеском фресок Джорджоне, но что я сам, возможно, окажусь тем крошечным человечком в котелке, стоящим перед порталами Святого Марка, которого мне показывали на большой фотографии этого собора), когда услышал обращенные ко мне слова отца: «Должно быть, еще холодно на Большом канале, ты хорошо бы сделал, если бы положил на всякий случай себе в чемодан зимнее пальто и теплый костюм».
Второе – чудовищное нагромождение придаточных предложений с причастными и деепричастными оборотами:
Но моя мать, по-видимому, не обнаружила ничего особенно заманчивого в этом отделении Труа Картье, где Сван, пока она была там, воспринимал ее как определенную личность, с которой у него были связаны воспоминания, заставившие его подойти к ней и поздороваться.
Третье – громоздкие, натужные, неубедительные метафоры, доходящие в своей вычурности до анекдота, как в том эпизоде, где у Одетты едва не выпали глаза:
...закатившиеся за приспущенные веки блестящие глаза ее, большие и тонко очерченные, как глаза Боттичеллиевых флоринтиянок, казалось, готовы были оторваться и упасть словно две крупные слезы.
Четвертое – нежелание ясно и точно выражать свою мысль. Именно отсюда проистекает многословие Пруста. Он сыпет, сыпет словами, как песком в глаза, надеясь, верно, таким образом отвлечь читателя от понимания, что изображать тонкие движения души у него получается, примерно как у слона - танцевать на проволоке.
Здесь необходимо заметить, что все отмеченное пропадает, едва речь заходит о музыке – и Пруст внезапно начинает излагать ясно, и слова находятся точные, и метафоры.
Но что касается всяких мыслительных и чувственных движений героев, ему непременно нужно, чтобы читатель прибегал к настоящей дешифровке. Нельзя просто взять и зачитать кому-то отрывок из Пруста – его непременно придется сопровождать толкованием. Хорошо, если у читателя развито интуитивное восприятие. Но если нет, приходится брать и перекладывать на нормальный язык.
К примеру, вот такой пассаж:
Сожительствуя в уме Одетты с представлениями поступков, которые она утаивала от Свана, другие ее поступки мало-помалу окрашивались в цвет поступков утаиваемых, заражались ими, так что она не способна была подметить в них ничего странного, и они не звучали фальшиво в той специфической обстановке, куда она их поместила; но когда она рассказывала о них Свану, тот ужасался: так явственно выдавали они атмосферу, которой были окружены.
О чем таким образом - стреляя из-под левой ноги да через голову в правую пятку - сообщает нам автор? Да о том, что возлюбленная его героя так погрязла в разврате, что уже хороших поступков при всем желании не отличала от дурных, и поэтому частенько попадала впросак, выбалтывая, как нечто само собой разумеющееся, то, что в действительности шокировало обычный вкус. Зачем ему понадобился столь изломанный стиль, чтобы высказать эту, в общем-то, банальную вещь? Может быть, чтобы она не выглядела такой банальной? Рискните «раздеть» таким образом любой фрагмент, показавшийся глубокомысленным, и найдете нечто до пошлости обыкновенное.
Вот и можно было бы примириться с нелепым стилем Пруста, с его «лучами света, уплотняющимися как кирпичи» и потоком дождя, похожим на стаю перелетных птиц, если бы не эта удручающая банальность: обыватель пишет про обывателя. Он, вообще, является очень типичным представителем французской литературы своего времени – кропает любовно-социальный роман с уклоном в романтический эстетизм. Грубо говоря, Ги де Мопассан пополам с Теофилем Готье.
И надо сказать, что когда Пруст описывает людей во взаимодействии, он неплох. Рассказывая об отношениях старой служанки Франзуазы с ее старой хозяйкой Леонией, описывая кружок Вердюренов или музыкальный вечер у маркизы де Сент-Эверт, он делает занятные сравнения, изящные обобщения, любопытные наблюдения, демонстрирует чувство юмора и рисует очень образные картины:
Когда я сошел вниз, Франсуаза в задней кухне, выходившей на птичий двор, резала цыпленка, который, благодаря своему отчаянному и вполне понятному сопротивлению, сопровождавшемуся, однако, криками взбешенной Франсуазы, метившей ему ножом как раз под ухо: «Ах ты, паршивец! Ах ты, паршивец!» - выставлял святую доброту и мягкосердечие нашей служанки в несколько невыгодном свете/.../
Но все, что есть привлекательного в Прусте, конечно, не составило бы ему литературного имени – как сказала фрекен Бок, "на телевидении такого добра пруд пруди". Другое дело этот нарочито усложненный стиль. Тут есть обо что почесаться читательскому самолюбию.
В том, что стиль усложнен именно нарочито, легко убедиться, сопоставив изложение внешних событий и прямой речи персонажей с описаниями мыслей и чувств. Вероятно, Пруст полагал, что мысли и чувства человека, тем более, такого человека, каков его герой, не могут быть ясными и понятными, соответственно, и писать о них надлежит как можно более путано.
Мыслечувствие – главное, за что славят Пруста: вроде как ведет он читателя по лабиринтам памяти, где каждый шорох, каждый листик наполнены целой гаммой ассоциативных чувств и мыслей. Это как раз и должно было стать тем мостиком, который соединил бы нас с Прустом: я тоже крепко привязана к прошлому, не понаслышке знаю, что такое ассоциативное мышление и доводящая до болезни рефлексия; мечтательность, способность замещать реальность воображаемым, страстная увлеченность – все это знакомо мне очень хорошо. Но как же было соединиться с автором, который тупо врет. Взять эпизод из первой части, в котором юный Марсель едет рядом с кучером. Поздний вечер. Созерцание окрестных красот пробуждает в его трепетной душе непреодолимое желание записать свои видения немедленно, и он это делает, описывая, как на горизонте чернеют в последних лучах заката башни церквей. Но это же фантастика. Сидя на облучке кареты, в темноте карандашом написать такой большой текст, какой у него выпелся. Вы попробуйте днем, при ярком солнце, в салоне современного автомобиля на современной дороге современной авторучкой в блокноте с жестким основанием написать хотя бы страницу. Попробуйте, попробуйте. Вы тогда тоже проникнетесь этой сценой, как я.
И все эти пузырьки, многозначительно выпрыгивающие из-под листа кувшинки, и пылинки, и прочие отсветы в изображении Пруста выглядят для меня фальшивыми.
Знакомые предметы, мысли, чувства в его исполнении представляются нездоровыми. Вроде зацикленности подростка на том, что мама непременно должна поцеловать его перед сном (можно подумать, что мальчишке лет пять, не более). Или пресловутая "любовь Свана": где там любовь, это маниакальная зависимость себялюба, погрузившегося в очередную игру.
Пруст не инициирует читательского со-действия, со-творчества, он, как сферический конь в вакууме, абсолютно замкнут в своем тексте и не допускает общения. Поэтому мысль фактически бездействует, лишь фиксируя написанное и не испытывая ни малейшей потребности подхватить, повертеть, рассмотреть, примерить, восхититься, наконец.
Наконец, мое неприятие или, если угодно, непонимание Пруста – не когнитивного, а этического свойства. Типа того, как не понимаешь человека, считающего Твомбли художником: все объяснимо, но непонятно. Поэтому вслед за Джойсом, который не нашел у Пруста никакого таланта, но с большим основанием (Джойс, молодчага, прочитал лишь несколько страниц, я – весь первый том) скажу: слухи о гениальности Пруста очень сильно преувеличены.