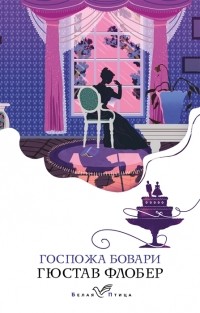Больше рецензий
26 декабря 2023 г. 18:21
111
4 «Госпожа Бовари»: тонкая диалектика романтизма
РецензияЕщё до начала чтения «Госпожи Бовари» Флобера у меня сформировалось представление, о чём эта книга. Мол, жила некая одухотворённая особа, но окружал её мир бездушного мещанства, а она хотела из него вырваться, и вот полюбила такого же одухотворённого мужчину, выгодно отличающегося от мужа-тюфяка, и это её погубило. Как именно погубило, я не знал, но думал, что её разоблачили, и она как-то от этого то ли умерла, то ли ещё что, в общем, ничего хорошего. И вот прочитал я, наконец, эту книгу, и понял, что всё немного не так. Давайте разбираться.
Неразбериха с мещанами
Во-первых, меня удивило, что любовников было два. Но это не так важно, важнее пункт «во-вторых»: оказывается, умерла она не из-за разоблачения, её там вообще никто не разоблачал, только глубоко после смерти. А умерла она, а точнее, самоубилась, из-за долгов. Это мне вообще показалось весьма странным: как проблема растраты связана с историей любви и измены? Ведь можно неумеренно тратить, вогнать семью в долги, дойти до банкротства и покончить с собой и без всякого адюльтера. И напротив, можно погубить душу изменами и толкнуть себя на самоубийство и без разорительных трат, опутывающих тебя паутиной векселей и закладных. Это вообще внешне не связанные вещи, так зачем же понадобилось Флоберу вводить линию банкротства и самоубийства, развивающуюся параллельно линии измен? Только чтобы избавиться от своей героини? Ведь не считать же органической связью этих линий сказанные впроброс пассажи о том, как Эмма тратила на своего второго любовника Леона деньги без счёта? Не могла она ничего значительного тратить, поскольку они почти не выходили из номера гостиницы.
Но и это не самое главное моё удивление. Главное состоит в том, что было поколеблено представление об одухотворённой натуре, окружённой миром бездушного мещанства. Откуда вообще взялось представление о том, что тема мещанства здесь главная; почему почти все критики об этом пишут как о чём-то само собой разумеющемся? Открываю, например, «Лекции по зарубежной литературе» Владимира Набокова и читаю: «Заявляют, что большинство персонажей «Госпожи Бовари» – буржуа. Но раз и навсегда нужно уяснить смысл, который вкладывал в слово bourgeois Флобер. Кроме тех случаев, когда оно означает попросту «горожанин» (частое во французском значение), у Флобера слово bourgeois значит «мещанин», то есть человек, сосредоточенный на материальной стороне жизни и верящий только в расхожие ценности». Набоков не только вводит в анализ произведения Флобера понятие «мещанин», ловко заменив им многозначное понятие «буржуа», но и даёт ему произвольное определение, определив существеннейшими чертами мещанина сосредоточенность на материальной стороне жизни и веру в расхожие ценности. И ведь он такой не один... Что ж, попробуем распутать этот клубок.
Давайте вспомним, где мы впервые в литературной традиции встречаемся с понятием «мещанин». Естественно, на ум приходит «Мещанин во дворянстве» Мольера, причём в оригинале заглавия используется именно слово «буржуа» – «Le Bourgeois gentilhomme». Под словом Bourgeois здесь понимается не просто горожанин, а представитель относительно нового класса раннекапиталистических предпринимателей, которые, заработав крупные капиталы, желали их, скажем так, культурной легализации – они хотели стать столь же уважаемым сословием общества, как gentilhomme – родовитые дворяне с не менее чем четырьмя поколениями дворянских предков. То есть дворяне были для таких капиталистов неким культурным образцом, подражать которому они могли в силу своих финансовых возможностей, а собственного культурного образца, достаточно привлекательного и уважаемого в обществе, у буржуа не было. Разве только этические максимы – трудолюбие, бережливость и т.д., но этого мало. Уже здесь слипание понятия буржуа, понимаемого в марксистском смысле как представителя сословия, определяемого по его отношению к средствам производства, и понятия мещанин, выглядит проблематичным: очевидно, что если буржуа пытается подражать высокому дворянскому культурному образцу, он уже не «сосредоточен на материальной стороне жизни». Напротив, он пытается преодолеть собственную культурную ограниченность: заработать деньги мало, нужно ещё получить уважение со стороны предыдущего привилегированного сословия; и даже получить дворянство, как это иногда случалось с буржуа, было мало, нужно ещё соответствовать своему новому титулу. В этом – вся проблематика комедии Мольера, написанной во времена, когда феодализм быстро уступал место капитализму, а идеология Просвещения предопределяла мощное культурно-образовательное воздействие высших, образованных классов на низшие.
Но вот проходит почти два века, и мы видим, что для героев Флобера дворянская культура по-прежнему остаётся привлекательным и манящим образцом. Лучше всего это видно в сцене вечера в Вобьесаре, куда семья Бовари получила приглашение от маркиза Андервилье. Эмма оказалась среди сиятельных господ, чья материальная культура достигла едва ли не совершенства, так далёкого от материальной культуры обычных горожан. Да, именно горожан, ведь никакими буржуа в марксистском смысле персонажи Флобера уже не были. И Набоков не может этого не отметить: «Флобер никогда не употребляет слово bourgeois с политэкономическим марксистским оттенком. Для него буржуазность определяется содержимым головы, а не кошелька». То есть речь здесь идёт уже не о предпринимателях, сколотивших свои состояния на раннекапиталистических отношениях, а об обычных людях, живущих весьма скучной жизнью, но видящих перед собой эстетически привлекательный идеал дворянской жизни. Соприкосновение с этой средой производит в их жизни едва ли не революцию: «Поездка в Вобьесар расколола её жизнь... От соприкосновения с роскошью на нём осталось нечто неизгладимое».
От Просвещения – к романтизму
Итак, может сложиться впечатление, что главная линия в романе «Госпожа Бовари» – это стремление обычных провинциалов подражать дворянству, которое вынуждает их тратить значительные деньги на материальное убранство жилищ, на одежду, на еду и прочие радости жизни. Кажется, что именно здесь сокрыто объяснение глубоко иррациональному финансовому поведению Эммы, которая закупала в долг красивые вещи, из-за чего в итоге прогорела и самоубилась. Вроде бы, мы здесь получили доказательство трактовки этих людей как мещан, что озабочены «материальной стороной жизни». Так что же, клубок распутан, и расхожие трактовки получили подтверждение? Всё дело в банальном мещанстве? Извините, но я так не думаю, а потому не останавливаю свои поиски.
Дело в том, что подражательство среди «обычных людей» никогда не ограничивалось только материальной культурой, заходя в области культуры духовной. Уже мольеровский мещанин Журден радовался тому, что говорит прозой, что в его системе взглядов виделось соответствием его повседневной практики неким культурным образцам: одно дело просто говорить, и совсем другое – творить собственными устами прозу, которая уже как бы принадлежит более высоким сферам. Не таким высоким, как поэзия, но тем не менее. Ко временам госпожи Бовари проникновение высоких культурных образцов в более низкие общественные сферы имело полный и завершённый характер: в первой половине ХIХ века на троне восседал пришедший на смену Просвещению романтизм, течение уже достаточно демократичное для того, чтобы пленять умы не только дворян, но и буржуа. Романтизм демократичен не просто на антропологическом, но даже на онтологическом уровне, ведь он формулирует представление об общей для всех людей и для мира как такового природе. Человек теперь – не объект просвещенческого воздействия, призванного пробудить в нём рациональность; эта устаревшая система взглядов слишком явно творила иерархию между просвещёнными и просвещаемыми.
Напротив, романтизм как бы дал санкцию каждому человеку на то, что его личность ценна такой, какая она есть. Пусть в ней горит пожар априори иррациональных чувств, эмоций, страстей – это не просто не страшно, а прямо-таки естественно, и особенности каждой личности независимо от уровня её просвещения и культуры есть священная ценность, ведь и мир сам по себе иррационален, и руководствуется он не столько разумом, сколько слепой волей. Романтический человек оказался избавлен от довлеющей иерархии, конструируемой разумом, и получил санкцию на проявление безудержных, бурлящих, разрушающих спокойное мещанское бытие страстей, которые есть проявления мировой воли (в шопенгауэровском смысле) в отдельно взятом человеке. И Эмма Бовари получила именно такое образование и воспитание, находясь в монастырском пансионе, и даже чуть раньше. Неслучайно Флобер рассказывает нам, что ещё в детстве Эмма прочитала роман Бернардена де Сен-Пьера «Поль и Вирджиния», который считается образцовым творением предромантизма: уже тогда будущая госпожа Бовари получила ментальный вирус в виде идеи о том, что естественная любовь и страсть – это достоинство человека, а нормирующее воздействие цивилизации – это зло. Проницательный читатель заметит здесь торчащие из кустов уши Руссо, ставшего, по сути, переходной фигурой между Просвещением и романтизмом, ведь именно он своей концепцией благородного, но испорченного цивилизацией дикаря поставил под сомнение главный постулат идеологии Просвещения.
Дальнейшее воспитание в монастыре только укрепило в Эмме преклонение перед культурными образцами, в которых дворянская культура низводила себя с духовных вершин, доступных лишь избранным, до образцов, доступных каждому в силу их «естественности». Вальтер Скотт, Альфонс де Ламартин – вот что составляло круг её излюбленного чтения. «Ей стали чудиться звуки арфы на озёрах, лебединые песни, шорох опадающих листьев, непорочные девы, возносящиеся на небо, голос Предвечного, звучащий в долине». Кстати, о Предвечном... Казалось бы, это же монастырь, и монахини-воспитательницы должны были противопоставить этой романтической хтони иное, сугубо католическое представление о мире и Боге. Но нет, даже религиозная часть воспитания Эммы проходила под влиянием новомодных течений мысли: по воскресеньям, например, воспитанницам читали отрывки из «Духа христианства» Франсуа-Рене де Шатобриана! «Как она слушала вначале эти полнозвучные песни романтической тоски, откликающиеся на все призывы земли и вечности!». То есть даже Иисус девицам того времени рисовался в образе страдающего любовника, наполненного призывами земли и жаждущего утешения мук в виде земной любви. В итоге девицам такого воспитания легко могло показаться, что любой адюльтер – не что иное, как умаление страданий Бога и восполнение порушенной гармонии мироздания.
Так кто здесь подлинный романтик?
Но, казалось бы, все эти наши рассуждения есть лишь доказательство расхожего тезиса о том, что Эмма Бовари была одухотворённой натурой, а окружающие её люди – обычными мещанами. Так что же, мы возвращаемся к изначальному тезису, который, вроде бы, хотели развенчать? Видите ли, на мой взгляд, практически все герои романа Флобера были именно такими натурами, как Эмма, и ничем особым она среди них не выделялась, ведь романтизм потому и был демократичным течением, что говорил о всеобще-универсальной природе человека. Возьмём, например, аптекаря Оме… Набоков, кстати, отталкиваясь от схожести фамилий, подчёркивает схожесть его ментального настроя с миросозерцанием госпожи Бовари. Хотя он не во всём схож: чувства его не интересуют, это дитя века Просвещения, воспринявшее его очарованность «разумом» без доли критицизма. Даже перебранки Оме со священником есть не что иное, как отрыжка вольтеровского антиклерикализма. Но, во всяком случае, Оме – не просто мещанин, который устремлён исключительно в материальное. Он, например, интересуется всеми новшествами науки и даже сам пытается заниматься исследованиями и писать трактаты.
И многие герои Флобера таковы – они пребывают под каким-то гипнозом распространённых идеологий последних веков французской культуры, тех или иных. Нет у них никакой устремлённости в материальное, как якобы положено мещанам; почти все они – на самом деле рабы духовной сферы, какая она сложилась к тому времени; ничего их не волнует так, как соответствие усвоенным в процессе образования и воспитания культурным образцам. На мой взгляд, почти все герои Флобера – никакие не мещане, а натуры, очарованные духовным, каким оно представлено в расхожих книгах того времени. Вот почему «Госпожа Бовари» – это книга, на самом деле, не о погруженности общества в материальное, а о том, как общество погружено в духовное, творимое культурной элитой и распространяемое сверху вниз под псевдо-натуралистические мантры о всеобщей демократичности. Волшебная сила искусства – вот подлинная тема романа Флобера, и сила эта такова, что заставляет забывать о материальном благополучии в пользу соответствия книжным, романтическим образцам. Разве семейство Бовари материально благополучно? Да оно, бездумно растратив всё, пустив по ветру материальную сторону жизни, распадается из-за любви, умирает из-за неё, причём в буквальном смысле.
А теперь пришло время обратить внимание на самого оболганного человека в романе, самого непонятого, самого шельмуемого критиками и читателями. Он кажется самим воплощением мещанства... Но, на мой взгляд, если понимать суть мещанства как устремлённость в материальное, то этот человек ещё менее мещанин, чем все остальные герои, потому что все его побуждения и стремления идут не из книг, а из глубины существа. Он единственный персонаж в романе, кто искренен, он единственный, кто любит не книжно, а естественно. И это – муж Эммы, Шарль Бовари.
Как мало похож он на человека, устремлённого в материальное! Он даже не хочет вникать в финансовые дела семьи, дав Эмме доверенность на ведение дел, из-за чего весть о банкротстве застаёт его врасплох. Он довольствуется самыми скромными условиями жизни и соглашается на хотя бы какое-то улучшение быта только чтобы обрадовать Эмму. Именно он – тот человек в романе, который умер от любви. Не от мышьяка, не из-за разорения, как Эмма, а просто из-за любви, из-за того, что и его любовь, и его доверие, и его идеал – не книжный, а живой, естественный, – оказались попранными. Поэтому не рассказывайте мне, что «Госпожа Бовари» – это роман о бунте одухотворённости против мещанства; нет, это роман о бунте нерефлексивного по отношению к господствующим культурным образцам общественного раболепия против живой, чувственной, искренней естественности.
И тогда получается, что именно Шарль есть поистине романтический человек, который живёт слепыми страстями, взрывающими тихую гладь общественной нормальности. А все остальные персонажи с Эммой во главе, на самом деле, застряли в просвещенческой парадигме, которая спускает сверху вниз культурные образцы, имеющие нормативный характер. То есть Просвещение творит людей-автоматов, копирующих вычитанные в книгах образцы, а романтизм есть бунт природного начала в человеке. Причём романтизм оказывается на редкость коварен: тех, кто собирается слепо следовать за ним по книжным образцам, он отбрасывает назад как несдавших экзамен подлинного самостояния личности. И только тех, кто вроде как отвергает его, он принимает в свои объятия. Чтобы стать романтиком, нужно отвергнуть романтизм, ведь поклонение любому «изму» делает тебя человеком Просвещения – податливым и покорным формирующему воздействию свыше. Вот такая тонкая диалектика свободы и покорности, где дух каждой эпохи всегда готов внезапно обернуться своей противоположностью.