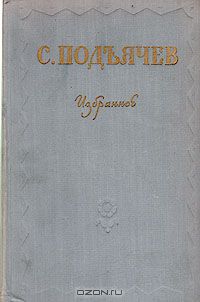Больше рецензий
2 апреля 2014 г. 17:43
363
5
РецензияСемен Подъячев – выходец из крестьянской бедноты, имеющий за плечами образование в виде сельской школы и года в техническом училище, создал в своих повестях пожалуй самую страшную картину жизни низших сословий на рубеже веков. Он вывалил перед читателями с ненаигранной прямолинейностью всё самое отвратительное и гротескное, то о чем литераторы прошлого скорее всего и не ведали, описывая своих крестьян хоть иногда и с искренним участливым интересом, но как ни крути с позиции господ. В отличии от своих коллег по цеху, писателей нарождавшейся в начале 20 века народной литературы – Вольнова, Гребенщикова, Чапыгина, Подъячев так и не вошел прослойку новой революционной интеллигенции, не удалось ему и после октября встроиться в литературную номенклатуру, хотя революцию он принял с энтузиазмом. Голос Подъячева – это истинный голос русского мужика. Он даже пролетаризироваться не смог, так и жил до конца своих дней в родной деревне под Дмитровом жизнью самого обычного крестьянина, испытывая постоянную нужду, с целой оравой детей, за своё писательство не получая ничего, кроме насмешек односельчан.
Ранние повести Подъячева автобиографичны. «Мытарства» рассказывают о том как он, ещё будучи молодым, пытался найти себе работу в Москве. «Какъ и почему случилось это со мной,-- читателю знать не интересно. Достаточно сказать, что я очутился въ Москвѣ безъ мѣста, безъ гроша денегъ, безъ знакомствъ и въ короткое время дошелъ до положенія совершенно отчаяннаго. Какъ-то разъ, въ одинъ особенно тяжелый для меня день, попалъ я, у Преображенской заставы, въ извѣстный среди бѣднаго люда трактиръ, подъ названіемъ "нищенскій", и здѣсь пропилъ съ себя всю одежду...» В этот день его это впрочем не остановило, и в ближайшее время в компании ушлого нищего он продолжит пьянствовать, пропивая одежду уже другого незадачливого деревенского парня. Они шляются по кабакам Хитровки («Хивы») до позднего вечера, а потом идут в ночлежный дом, где уже «подъ навѣсомъ и дальше по тротуару, по порядку, "въ затылокъ" стояла толпа человѣкъ въ 500, ожидая когда отворятся двери...» Это будет входом в подлинный ад, там люди и события приобретают по истине фантасмагорические черты. Сумасшедшие, завшивленные, насквозь пропитые нищие загоняются как стадо в загон и занимают нары. Они курят, матеряться, воняют, харкают, блюют и пиздят друг друга. На следующий день герой идет устраиваться в работный дом, там всё становится ещё хуже, беспросветней и страшней. Перед глазами проплывёт целая галерея потерявших практически все человеческие черты существ.
Вторая повесть «Среди рабочих» в первой своей половине ничем не уступает по мрачности «Мытарствам», Но прибавляется какая-то звериная кровожадность и кровавость. Герой работает батраком в подмосковной усадьбе. Рабочие, одуревшие от издевательств начальства, вечного водочного пьянства и бедности, живущие в бараках, кормящиеся какими-то невообразимыми похлебками из протухших кишок, предельно ожесточаются ко всему окружающему миру.
Следуют кошмарные сцены драк:
«Парень взял от него чашку, подержал немного и сказал:
-- С праздником! Желаю здравствовать!
-- Пей, пей! -- сказал кузнец. -- Пей, небось...
Парень поднес чашку ко рту и стал "сосать" водку...
В это время кузнец, с перекосившимся от злобы лицом наблюдавший за парнем, размахнулся вдруг правой рукой и со всей силы ударил кулаком по донышку чашки...
Парень вскрикнул и упал навзничь на землю.
Чашка разбилась... Парень, обливаясь кровью и как-то чмокая, заерзал по земле, стараясь встать.
-- Вот тебе! -- крикнул кузнец и ударил его еще сапогом в бок, -- на, пей!..»
избиения мужем жены:
«Нас отпустили. Мы отправились на кухню и там совершенно неожиданно наткнулись на такую картину: на полу около стола валялась, как чурка, кухарка, страшно избитая и связанная. На ней положительно не было лица (sic!). Какой-то кровяной комок, а не лицо. Рот был заткнут тряпкой, крепко-накрепко закушенной зубами... На обнаженном теле висели там и сям узкие полосы одежды. Жидкие рыжеватые на голове волосы были растрепаны, и вырванные клоки их валялись на полу.
-- Господи!.. Что ж это значит! -- воскликнул Юфим.-- Ох, грехи!.. Беги кто-нибудь за самим... Не трогай до урядника.
Нарядчик нагнулся, оправил на ней платье и вытащил изо рта тряпку. В горле у ней что-то захлюпало.
-- Эй! -- крикнул нарядчик. -- Матрен! А, Матрен! Кто тебя! А?..
-- Чего спрашивать, кто?.. Известно, кто, -- сказал Юфим. -- Он, небось.
В горле у кухарки захлюпало еще шибче. Она вдруг открыла как-то страшно круглый, весь залитый кровью левый глаз и зашевелила губами...
-- Что-о-о? -- крикнул нарядчик.
-- Му-у-у-ж! -- послышался хриплый, сдавленный, слабый голос, и после этого в горле у ней опять захлюпало.»
И разных бытовых мракобесий:
«От нечего делать я подошел к погребу, где под навесом на низенькой скамейке сидела какая-то пожилая баба с ребенком на руках... Ребенок пищал безостановочно, настойчиво, жалобно, точно котенок, выкинутый в канаву... Баба сидела, склонившись к нему лицом, и не делала никаких попыток унять его крик... Казалось, она спала, и в ее позе было что-то жалкое, пришибленное, робкое... Я спросил, почему она не хочет покормить ребенка грудью или дать соску, чтобы он затих.
— Да он, батюшка, не с голоду блажит, — заговорила она, точно проснувшись, и с каким-то испугом взглянула на меня, — такой уж он озглявый с роду... скулит тебе и скулит... Ни дня, ни ночи спокою нетути... Болезнь такая, — пояснила баба, — старость собачья, тает, ровно свечка... Ты глянь-ка-сь на него... Страсти господни!..
— Что ж ты не лечишь его! — взглянув на ребенка, почти с испугом воскликнул я.
— Как, родной, не лечить, лечили!.. Пытали мы с ним мыкаться... Что ни что делали... запекали...
— Запекали?
— Да бабушка запекала... Поутру затопила печку... Взяла бабушка его, положила на хлебну лепешку да до трех разов и совала в печку горячую.
— Ну, и что же?
— Ничего... Не берет и не берет!.. У других, вон, посмотреть, мрут, а на этого и смерти-то нету... Притка его знает, что таперича с ним и делать...»
Грудников у Подъячева потом будет морить голодом баба в совершенно лавкрафтовском по атмосфере рассказе «Шпитаты». Она брала их из роддомов у отказывающихся матерей, за что ей платили какие-то копейки, на которые они с мужем и выживали. Хитрость была в том, чтобы дети не прожили слишком долго, потому что за взрослых давали меньше. Совершенно жутко описывается, как она их содержала. По-настоящему шокирующий рассказ.
Во второй части «Среди рабочих» герой уходит с ещё двумя вменяемыми людьми из поместья, потому что там начинает творится что-то совсем непереносимое по своей жути, и направляются куда глаза глядят. Они попадают в монастырь, где устраиваются разнорабочими. Жизнь среди развращенных, пьяных монахов уже полегче. Подъячев, конечно, снабжает читателя множеством «пикантных» подробностей. Например, описанием юродивого монашка, с проеденной вшами до кости головой. Потом они уходят и оттуда, устраиваться на время сбора урожая косцами, у них вроде всё налаживается. Но вот герою приходит печальное сообщение из дома (какое не говорится), и он расстаётся с полюбившимися ему людьми. Для Подъячева, фактически, - это хэппи-энд.
Примерно в таком же тяжелом ключе выдержана и повесть «У староверов», населенная жуткими шатунами, и рассказы «Зло», «Забытые», да и в общем-то всё остальные произведения Подъячева. Его герой ведет рассказ об увиденном зле несколько отстранено, лишь иногда позволяя себе рефлексию, это дает ему возможность не свихнуться. Он по-своему тонко чувствует природу, но в нем уже нет упоения, свойственного 19-му веку. Он понимает, что мир (особенно его мир) – совсем не доброе место, деревья вокруг и птички над головой ничего не меняют. Наоборот, он часто всматривается в ночь, в космическую бесконечную тьму, где уже нет того, "Всеблагого" и "Всепрощающего". Но отчаиваться тоже нельзя – иначе смерть не заставит себя долго ждать.
Несмотря на ограниченность художественных средств, на некоторое однообразие сцен и сюжетов (чем впрочем грешат и намного более известные и именитые писатели), Семен Подъячев сумел создать сильную, необычную литературу, достойную того, чтобы её иногда всё же читали.