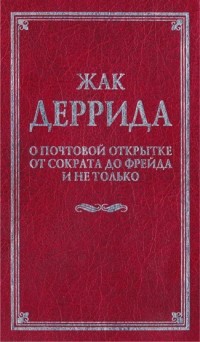Больше рецензий
14 февраля 2023 г. 21:03
152
2.5 Знаки, знаки и ничего кроме знаков
РецензияГоворя по справедливости, конечно, нельзя не отметить того бесспорного факта, что Жак Деррида является, вероятно, одним из самых важных, ключевых и влиятельных философов всей второй половины двадцатого века. Может быть даже стоит констатировать, что кроме его философии вообще никакой объективной системы с этим веком даже просто-напросто уживаться не может. Действительно, сегодня мы видим, как раз некие последствия Дерридианской философии повсюду, прежде всего в наших средствах медиа и передачи информации.
Но главной его идеей была и остается попытка деконструкции в первую очередь прошлого и всей истории философии и метафизики. Он начинает сразу с главного – разбора и развенчания такого важного понятия как субъект. Для него этот центр силы, объект притяжения, источник и цель вечных поисков истины является полнейшим миражом, как минимум применительно в отношении к нашему современному мышлению. Такое понятие как субъект разбирается Деррида на атомы, он хочет показать, что это просто очередная интерпретация (только чья? Создателя? Всевышнего? Но ведь, и он "архитектор" по системе автора является точно такой же интерпретацией). В принципе, сама по себе данная концепция не нова, и, например, тот же Фуко раз за разом, снова и снова возвращался к идее о том, что человек как понятие является просто суммой господствующих инстанций, систем подавления и стоящей у руля идеологии – с каждым веком представление о нем меняется нередко на прямо противоположное. Но вот хитрость Деррида и состоит в том, чтобы вообще убрать даже ту точку восприятия, откуда исторически рассматриваются даже сами эти изменения.
И тут его идеи становятся действительно загадочными и увлекательными – в этом постоянном скольжении мысли по поверхности, ее попытке избежать любой ловушки системности и порядка, вступить в эту вечную зеркальную игру между символами, которые не символизируют уже ничего кроме самих себя и состоит роковой фокус его философии. Интересно было бы отметить насколько такая концепция близка, например, к симуляции и симулякрам Бодрийяра – цель которых заключается не в том, чтобы скрыть собой истину, а чтобы заменить ее собой и скрыть тот факт, что ее вообще нет. Может ли мышление в принципе двигаться куда-то еще, если оно уже зашло в лабиринт Деррида, каждый выход из которого, даже найденный с превеликим трудом, является просто очередным входом в него же.
Соответственно, развенчав субъекта как одну из главных тайн, автор переходит и к другим областям знания и культуры. В первую очередь, конечно к письму. Радикальное различие тут уже априори кроется в самом понятии и сущности письма. Что такое письмо? Это записанное на бумаге движение мысли или живая речь, которая вспыхивает как звезда и тут же гаснет в мутном хаосе времени. Естественно, все что остается письму это попытаться хотя бы повторить в общих чертах и нарисовать траекторию этого акта. Таким образом, оно, по сути дела, сводится к попытке повторения и, в каком-то смысле, само по себе является симулякром, плодя после себя еще большее множество копий и их интерпретаций. Соответственно, мир просто-напросто коснеет в каком-то королевстве кривых зеркал, где понятия давно оторвались от сущности, а деяния никак не связаны с животворящим духом.
В истории имеются два главных примера, в которых очень ясно различаются первоисточник и его позднейшая "переписка", которая впоследствии получила полный карт-бланш. Первый относится к основателю Христианской религии, который, как известно, совершенно намеренно не оставил после себя ни строчки и передавал свою мудрость исключительно в устной форме. Учение действительно долгое время передавалось только из уст в уста, от духа к духу, но в какой-то момент стало активно интерпретироваться в письменном виде, и вскоре в нем же было канонизировано. Известно, что это позднее привело к множественным церковным расколам, неоднократным извращениям первоначального замысла и огромному количеству простых человеческих трагедий, которых так стремился избежать первоисточник. Второй пример более приближен к философской науке, он показывает Сократа, великого мастера споров и изустных бесед, и его ученика Платона. Для первого важнее всего было удивление и сам процесс поиска истины, которому оно сопутствует – общение для него являлось чем-то вроде живого органического процесса родов, результатом которого выступало появление на свет самой истины в совместном, коллективном мышлении. Платон же, вероятно один из самых мастеровитых писателей человечества, преподнес уже несколько другую, застывшую в «идеальности» систему видения мира, которая стала настолько безукоризненно "идеальной", что до сего времени ее не может поколебать ни материализм, ни даже нигилизм. Тут также видна его страсть к систематизации, ранжированию и даже «законотворчеству». В сочинениях Аристотеля эта тенденция заметно усилится. Интересно, что именно труды Стагирита найдут с сочинениями Отцов Церкви такую близкородственную связь и на многие столетия, пока не придет эпоха Ренессанса, оставят человечество в этой мистической полутьме.
Тема взаимоотношений Сократа и Платона обыгрывается в книге бесчисленное количество раз, в том числе даже в сексуальной интерпретации. Естественно, все это сопровождается литературными комментариями на тему коммуникаций и прежде всего письма в принципе. Сегодня, когда любое сообщение и любая информация может достигнуть противоположной точки земного шара, сама по себе магия письма оказывается утраченной. Такой важный элемент как фантазия, пережевывание, осмысление, самоанализ чувств своих собственных, а также адресата, оказывается попросту уничтожен. Деррида же в рудиментарной форме классических любовных писем выжимает буквально все из этого, кажется навсегда утраченного, средства связи. Будучи в первую очередь французом, во-вторую, большим знатоком романтической литературы, в-третьих, просто крайне эрудированным и тонко чувствующим человеком, в своих пассажах он достигает подчас действительно экстраординарных высот. Намеренно, он также стилистически старается оставить большую часть своих речей без завершения, как бы оставляя свободное пространство для восприятия и воображения в том числе и читателю. Невозможно понять где тут кончается экзистенциально-любовная лирика и начинается философская проза, но чтение даже столь необычной литературы чем-то привлекательно и заставляет двигаться дальше по книге.
Что же касается второй части сочинения – то в ней, уже в более академическом тоне рассматриваются сочинения Фрейда. В свойственной, полуобъясняющей, а скорее больше намекающей манере, Деррида старается тут вообще доискаться до психоанализа в его первоисточнике как чистой формуле, то есть, иначе говоря, уничтожить в нем точку зрения самого психоаналитика как субъекта и снова погрузить систему в вечную игру взаимоотражения знаков.
Резюмируя, стоит сказать, что начинать изучение Деррида с книги «О почтовой открытке» нет практически никакого смысла. В первую очередь, нужно понять сами законы функционирования его мышления, увидеть те основания, на которых автор выстраивает свою систему. Все это в изобилии представлено в его ранних сочинениях. Эта же книга представляется из себя скорее художественное, нежели философское произведение, в котором демонстрируется развертывание сил основной теории и ее возможностей.