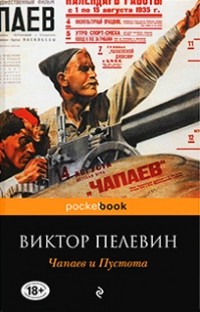Больше рецензий
10 июня 2022 г. 15:27
730
5
РецензияКогда-то я читала Пелевина довольно много, но именно роман "Чапаев и Пустота" обошёл меня стороной; название из двух этих слившихся в монолит слов долго хранилось в памяти, но о содержании я не знала ничего. Так что первые 2-3 главы были для меня настоящим неконтролируемым падением в безумный мир психоделических метафор о едва уловимом, но почти пойманном смысле жизни. Именно за этим падением я и шла к Пелевину, так что всё сошлось, как я хотела.
Тоже не буду раскрывать каких-либо сюжетных сюрпризов или секретов многогранности личностей героев, потому что такого рода напряжение стоит выдержать самостоятельно от начала и до конца. Как, где, в каких измерениях получают Чапаев и другие персонажи своё развитие, через какие события им приходится пройти, как они к этим событиям относятся, как герои преображаются, – весь их долгий и в то же время краткий, как горящая спичка, путь проявления себя во временности вместе с последующим возвращением в вечность засасывает настолько, что к концу книги ты уже сам похож на парня из мема, на "идущего к реке" (которому "этот мир уже абсолютно понятен").
Время ли это Гражданской войны, время ли это "лихих 90-х", – всё так же человек в какой-то момент предстаёт перед бесконечностью, пытается соотнести столь малого себя с неограниченной жизнью всего мира. Но дело не заканчивается тем, что герой в этой встрече с вечностью просто осознаёт свою "маленькость", находит себе посильное место в мироздании, цепляется за некий смысл существования и спокойно доживает свой срок. Героям "Чапаева и Пустоты" этого мало, они ведут диалог с миром на равных, в духе ницшеанского сверхчеловека ставят вечности вопросы о смысле существования, требуют от мира ответа. И, понимая, что в избыточном, заваленном бессмысленными сущностями пространстве земных воплощений нормального ответа они не найдут, выходят в пространства, пограничные с реальностью.
С одной стороны, эти метафизические фокусы, психоделические метафоры, разговоры об истине и смысле жизни в изменённом состоянии сознания, – всё это как будто всем знакомо, стало таким расхожим и типичным, что даже и неприлично. С другой – у всех подобные мысли и образы случаются когда-то в первый раз, основываются на искреннем желании раз и навсегда решить самые важные вопросы о бытии, накрывают масштабом только что открывшейся истины... Которая обычно потом затирается, теряется в процессе жизни каждого невзрачного земного воплощения, в котором ненадолго проявляет себя бытие.
Но у кого-то – например, у Чапаева – получается полноценно пребывать во временности, не бросая при этом вечность. И то, как ему удаётся это совмещать, вызывает восхищение даже при том, что постоянно помнишь, что это литературный персонаж, а не реальный человек. Хотя тут как всегда встаёт вопрос о том, что такое реальность; цитируя самого пелевинского Чапаева: "Глупа сама постановка вопроса – ведь нет ни одного красного командира, который действительно был бы красным командиром; любой из них просто изо всех сил старается походить на некий инфернальный эталон".
И вот теперь можно освободиться от этих эталонов, вырваться из закостеневших мирских пут, выйти из жалкой предопределённости жизни; снова стать непривязанной к земному существованию вечностью. Можно очистить сознание от привнесённых иллюзий и создать внутри себя ту пустоту, которую можно заполнить бесконечностью и величием мира.
...
Правда, потом духоподъемный восторг проходит, и приходится думать, как во вполне реальной и ограниченной многими условиями жизни дать развернуться той бесконечности, что ненадолго выглядывает в мир через твоë краткое и такое хрупкое существование.