Больше рецензий
9 декабря 2012 г. 20:18
376
5
РецензияОсторожно: много непричесанных букв и занудства.
Рот будет зевать, глаза – слезиться, спина – ломить.
Короче, только для специалистов (политологов, филологов, философов).
Меня всегда интересовал вопрос, почему классическая русская литература такая. Почему мы учились у французов, но по сравнению с легкомысленной французской прозой наша была образцом целомудрия, здравомыслия и напоминала суровый монастырь. Почему у нас писатель – обязательно проповедник и святой. Почему никто из классиков не писал о счастье, а все только о страдании. О долге. Об отречении.
Почему, в конце концов, Татьяна не убежала с Онегиным?
Я не понимал.
Я что-то ощущал, конечно. Все мы, русские, что-то ощущаем. Особенно когда ночью на даче в полудреме услышишь звук проходящего поезда, покажется, что вмиг разгадал свою душу. А проснешься и не помнишь, что разгадал. Вербализовать сложно.
И вот мне попалась книжка с ответом. Точнее, она подсказала мне гипотезу, почему русская литература такая.
Все дело в политике!
В России XIX века литература была единственным способом политического участия граждан в жизни общества. Вторым способом – была литературная критика.
Исторические причины такого странного, с европейской точки зрения, явления – известны: после восстания декабристов самодержавная власть, опасаясь вольнодумства и неблагонадежности, решила опереться на чиновничество, создавая такие государственные формы, которые не предполагали участия других социальных слоев в процессе принятия решений. С этого же времени в России была ужесточена цензура, не допускающая прямых политических высказываний в прессе. Вузы, по проекту С.С. Уварова, должны были превратить студентов в «достойных орудий правительства». А проявления «гражданского неповиновения» власть пресекала на корню. А.И. Герцен провел год в тюрьме, а потом три года – в ссылке «за оскорбление императорского величества пением возмутительных песен» на студенческой вечеринке, на которой он даже не присутствовал.
Кроме военной или государственной службы, других форм гражданской жизни в России не предусматривалось. И здесь пришла литература. Она наполнила все пространство социальной пустоты, как дым наполняет пустоту бутылки. Литература стала воспитывать у нас гражданство больше, чем любые политические тексты. Чем все другое. Литература и критика стали единственными прибежищами общественной мысли, ареной общественной борьбы и, в конце концов, способом изменения жизни к лучшему. Литература создавала образ героя и врага. Литература звала вперед. Литература определяла нашу социальную и политическую жизнь!
Начиная с 1840-х гг., всякий заметный писатель становился у нас общественным вождем. Каждый должен был идти направо или налево, а писатель индифферентный к общественным вопросам не имел влияния на публику. Для выдающихся критиков, начиная с 40-х гг., художественные произведения становились лишь предлогом, чтобы высказать свои общественные идеалы.
Возможно, именно эта социальная ответственность сделала русскую литературу великой. Все, что придает такую красоту русской литературе, все, что составляет тайну ее обаяния, состоит в невозможности автора примириться с социальной неправдой. Если давать самое приблизительное определение русской литературе XIX в., то она представляет собой беспримерное сочетание художественной красоты и нравственной силы в подавляющем числе своих образчиков.
Но главное, что посмотрев на русскую литературу с политической точки зрения, мы правильно поймем ее особенности и отличия от всех других национальных литератур.
1. Освободительный пафос
С точки зрения автора книги Андреевича, именно освободительный пафос дал русской литературе лицо. В 1834 г. В.Г. Белинский писал, что на русскую литературу, в огромной ее части, можно смотреть как на сплошной перевод с иностранного. Все так. И все бы, может быть, так и продолжалось, если бы исключительные обстоятельства жизни не придали литературе очень рано протестного характера и не выдвинули на сцену той идеи, которая стала господствующей. Имя этой «господствующей идеи», по мысли Андреевича, было – отрицание крепостного права.
В соответствии с этим взглядом, новейшую историю русской литературы критики революционно-демократического толка начинают с Гоголя, Белинского и «философского брожения мысли» 1830-х годов. К тому, что было раньше, можно относиться как к периоду подготовительному. Хотя идея отмены крепостного права появилась еще в XVIII веке. Первыми пытались отделить литературу от государства, придать ей протестный характер такие трагические персонажи нашей истории как Н.И. Новиков и А.И. Радищев.
Ну а Пушкин? А Пушкин, за исключением своих вольнодумных стихов, по иронии судьбы, не имел отношения к сущности русской литературы. Его слишком беззаботный и жизнерадостный стиль совершенно не соответствует, сложившемуся после Гоголя и Белинского, идеалу «сурового монастыря». Парадоксальным образом русские писатели не пошли за своим национальным учителем.
В нашей литературе господствовала идея, а не красота. Этика, а не эстетика. Наша литературная юность, как пишет Андреевич, – это злые насмешки Крылова и Грибоедова, скорбный смех Гоголя, проклятия Лермонтова и страстное желание его «смутить веселость их и дерзко бросить им в глаза железный стих, облитый горечью и злостью», безнадежный приговор всему русскому прошлому и настоящему – Чаадаева, сарказм и ирония Герцена, резкая критика Белинского и т.д.
Справедливости ради надо сказать, что Андреевич ошибочно сводит все многообразие тем и направлений русской литературы к борьбе с крепостным правом. Если это стремление вдохновляло русских литераторов на этапе возникновения литературы, то говорить об одном освободительном пафосе на протяжении всего XIX в. – чрезмерное упрощение. Однако авторам всех направлений был свойственен учительский тон, проповедческий пафос, которого не знала европейская литература.
2. Проповедческий пафос
Проповедческий характер русской литературы тоже обусловлен политическими причинами, его никак нельзя объяснить западным влиянием. Там, на Западе, общественная жизнь имела другие способы самовыражения, кроме литературы и критики. Была наука, было развитое изящное искусство. Было политическое представительство. Литературе не было надобности восходить на кафедру и оттуда учить жить. У нас же автор воспринимал литературное творчество как служение, как долг перед народом и страной.
С тех пор, как в эпоху Белинского русская литературно-общественная мысль раскололась на два направления: людей, связывавших свои надежды с европейской демократией, и людей, отстаивающих возможность «русского пути», западнические и славянофильские мотивы проходят красной нитью через произведения практически всех крупных русских авторов на четыре последующих десятилетия.
Все, что написано Тургеневым, Гончаровым, Григоровичем, Достоевским в первой половине их деятельности, все, что потом написано Салтыковым-Щедриным, Некрасовым, Глебом Успенским, революционно-демократическими публицистами 1860-70-х гг., все это, является отражением вполне определенных направлений социально-политической мысли, которое можно условно назвать «западничеством».
С другой стороны, творения писателей, которые группировались, начиная с 1840-х гг. вокруг журнальных изданий Погодина, Шевырева, в 60-е – вокруг «Русского вестника», Достоевский и Гончаров в зрелый период творчества, все эти тексты являются выражением «славянофильского» мировоззрения.
Писатели славянофилы с «пламенным усердием» давали отпор новым западническим течениям и, так же как их оппоненты, превращали свои произведения в пропаганду.
3. Антибуржуазный пафос
С проповедью общественного блага напрямую связана идея самоотречения. Потому что существенным элементом программы по насаждению правды и осуществления идеала является сознание, что на каждом человеке лежит обязанность искоренять зло этого мира. Поэтому личное счастье преступно или пошло, а цель человеческой жизни должна состоять не в достижении счастья, а – в борьбе за правду.
Стефан Цвейг писал: «Раскройте любую из пятидесяти тысяч книг, ежегодно производимых в Европе. О чем они говорят? О счастье. У Диккенса целью всех стремлений будет миловидный коттедж на лоне природы, у Бальзака замок с титулом пэра и миллионами. Кто из героев Достоевского стремится к этому? Никто. Ни один».
Галерея литературных типов второй половины XIX в., за исключением сатирических и второстепенных, демонстрирует нам разного рода самоотречение и самопожертвование.
Жажда подвига, желание принести себя в жертву, отказ от благ этого мира во имя чего-то высшего, все эти антибуржуазные мотивации мы найдем не только в литературе, которую принято называть революционно-демократической, но и в текстах авторов, теоретически открещивавшихся от русской интеллигенции, – у Толстого и Достоевского.
Итак, социально ответственные русские писатели понимали свою миссию исключительно как проповедь, а критика (Белинский, Чернышевский, Добролюбов, Писарев) ревностно следила, чтобы миссия выполнялась и била по рукам тем писателям, которые понимали литературу иначе или позволяли себе какие-то эстетические вольности. Продолжая метафору, если русская литература была суровым монастырем, то критика представляла отряд иосифлянских старост, которые возвращали заблудших монахов к праведной жизни ударами посоха.
4. Народнический пафос
Учитывая, что интенционально русская литература была освободительной, с 1840-х гг. она находила свои идеалы в народной жизни. Романтизм и сентиментализм были у нас направлениями подражательными. При всей гениальности Пушкина, Лермонтова, Жуковского. Оригинальность нашей литературы выразилась в народничестве: в славянофилах, в Некрасове, в Герцене, в Лаврове и Толстом. Политический протест в условиях аграрной крепостнической страны в XIX в. неожиданно получил характер преклонения перед простым мужиком и русской сельской общиной. И здесь парадоксальным образом встретились идеалы революционно-демократического и славянофильского направлений.
Славянофилы первыми сказали, что от европейцев нас отличает общинно-земледельческое мышление. Что идеалом общественных отношений для русского человека является мiръ (сельская община). В ней реализуется духовный принцип соборности. После кризиса либеральных идей, связанных с событиями во Франции 1848 г., общиной заинтересовался Герцен. Он нашел в ней, кроме соборности, реализацию социалистических принципов имущественного равенства, коллективизма и самоуправления. После Герцена для всех русских революционеров, вплоть до Ленина, община была чем-то святым, залогом перехода к социализму, минуя «ад капитализма». Народничество стало в XIX в. нашей религией, нашей «собственными руками выстроенной церковкой».
Общинное мышление, разумеется, не призрак, выдуманный славянофилами, начитавшимися Гегеля. Это факт нашей истории. Другое дело, что мужик-общинник, наверное, понимал его в значительной степени иначе, чем сентиментальный дворянин или злой разночинец. В любом случае, именно община вдохновляла русских интеллектуалов XIX в., именно она давала надежду на осуществление «крестьянского царства» или «свободной федерации крестьянских общин» на началах христианского (коммунистического) братства.
В народничестве, опять же, не было ни капли заимствования. Больше того, благодаря народнической тенденции, наши писатели воспринимались на Западе или дикарями, или святыми. Дикарями потому, что они превозносили архаические формы хозяйственной деятельности, противились прогрессу, а святыми потому, что эти формы понимались обращенными к идеалу раннехристианской общины. То есть в основе общинного объединения лежала отнюдь не экономическая выгода, а нравственная необходимость.
5. Христианский пафос
Напрямую с идеализацией простого народа и сельской общины связана «опростительная» тенденция в русской литературе. Она заключалась в стремлении духовно и физически слиться с народом, с его бытом, проникнуться его мышлением, его простой и честной религиозностью. Эта тенденция выразилась в учении славянофилов, народников и нашла свое завершение в толстовстве. И на примере графа Л.Н. Толстого, главного «кающегося дворянина», лучше всего видно, откуда она взялась. Из обостренного чувства справедливости. Уже в раннем произведении Толстого «Детство» можно найти ощущение неловкости, возникающее у маленького барина оттого, что он живет не своим трудом. И это чувство неловкости, практически незаметное в западной литературе, было источником огромного количества русских шедевров.
Опрощение – идея чисто этическая. В ней нет стремления к знанию, к благосостоянию, никакой воли к власти. Напротив. Ее главный враг – эгоизм. А идеал – бедность. В центре нашей литературы XIX в. стоял «народолюбец». Как славянофил он исповедовал православие. Как народник – мораль любви и самоотречения. Народолюбец мог быть православным, атеистом или толстовцем, не важно, но именно христианство определяло его идеалы общественной жизни.
Какую бы книжку XIX в. мы не взяли, везде будет проповедь любви, сострадания, жажда подвига. Причем этот подвиг ценен не результатом, а сам по себе. И такой русскую литературу сделала, с одной стороны, власть, которая создавала государственные формы, исключающие политическое участие и, с другой стороны, чувство «неоплатного долга» дворянства перед народом.
Где-то рядом есть сопротивление идеологии «официальной народности», но это я еще не понял.

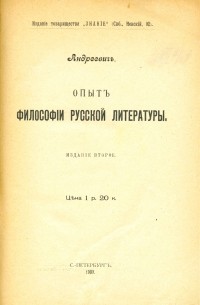
Ветка комментариев
Получился большой пост, поэтому ответил новым комментарием.