Больше рецензий
12 октября 2020 г. 07:24
587
3.5 О важности чувства юмора
РецензияИсследователи бывают разные. Кого-то тянет симпатия, кого-то антипатия, кто-то хочет что-то доказать, кто-то осудить, и такое разнообразие можно только приветствовать - оно помогает создать объемную картину прошлого, нюансированную, почти живую, нестатичную. Поэтому при прочих равных можно приветствовать любые исследования, даже самые идеологически зашоренные, ведь и они в известной мере способствуют прогрессу. Но мне часто не хватает выдержки так поступать, например, когда автор сознательно врет.
Книга Петрон подарила мне еще один вариант, на который у меня не хватает выдержки – автор абсолютно лишена чувства юмора. Казалось бы, зачем историку это чувство, ведь это всего лишь виньетка, украшение стиля, n’est-ce pas? Ан нет, оказывается, что отсутствие чувства юмора порождает чудовищ, когда непонимание шуток заставляет автора городить редкостную чушь (абзацами и страницами). Дело, конечно, усугубляется тем, что автор – начетчик, совершенно формально и механически применяющая свою методологию к СССР, поэтому результат такой скверный. Получается, что Карен Петрон удивительно уместно смотрелась бы в советских карательных органах того времени, ибо ее подход ничем по модулю не отличается от мировоззрения сотрудников НКВД – она везде видит крамолу, находя ее даже там, где современники ее не разглядели. Такой подход имеет любопытные последствия – если автор права, если вся эта крамола есть там, где она ее видит, то она внезапно оправдывает так действия карательных органов, по крайней мере, их логику действий, а если ей так же мерещится, как и карательным органам, то у нее, выходит, такая же паранойя, как у органов.
Автор хотела, если верить названию книги и вводным частям, рассказать о социально-политическом контексте советских праздников в 30-е. По факту мы имеем слабо связанную подборку глав-статей, в которых нам предлагают узнать о парадах, об арктических летчиках, о елках, сталинской конституции и кое-чем еще. Самая любопытная и спорная глава - о летчиках, при этом она очевидно выпадает из темы книги, так как больше рассказывает о жизни челюскинцев на льдине, чем о праздновании их возвращения (то же относится ко всем, от папанинцев до экипажа «Родины»). Мне показалось, что автору было тяжело с источниками, фамилии авторов мемуаров одни и те же, что в рассказе про парады, что в рассказе про елки. При этом мемуары, насколько я могу судить, сплошь эмигрантские, что делает их заметно менее релевантными, но автор это не обсуждает. Я впервые обратил внимание на эвфемизм «эмигрировал из СССР во время Второй мировой», какое изящное определение для ушедших с нацистами! Согласитесь, если написать «как говорил такой-то, ушедший с нацистами, о елке в 1937», то такое свидетельство сразу воспринимается как менее достоверное, а если «эмигрировал из СССР во время Второй мировой», то вроде бы и ничего. Автор здесь опасно приближается к худшим образцам исторической прозы по мемуарам, как тут не вспомнить шедевр Бергхофа ?
Глава о парадах первая, и она хорошо подходит для иллюстрации авторского метода. Все проходило так, как проходит и сейчас – авралы, кампанейщина, косяки, сложности, более-менее сносный результат. В этом обычном процессе российской жизни автор ищет Большой политический смысл, в рамках которого любые действия участников Символизируют и Означают. Коробка национальной республики задержалась на две минуты? Это провал советской национальной политики 20-х! Начинает сказываться и отсутствие юмора. Автор анализирует шуточное пропагандистское стихотворение, в котором рассказывается, что школьники приняли участие в параде, и герою стихотворения показалось, что Сталин улыбнулся именно ему. Затем он спорит с другом, который считает, что Сталин улыбался ему, а не герою. По автору это стихотворение приоткрывает бездну напряжения в советском обществе, искавшем ласки вождя. Иногда банан – это просто банан, скажу я автору, простите такую ссылку на известный анекдот.
Дальше – больше. Дети играют в полярников и спорят – кому же быть Чкаловым? Это, по автору, символизирует построение в СССР новой иерархии, забвение эгалитарного проекта революции. Занятно тут все, и то, что автор знает лучше остальных, как должно выглядеть равенство, и то, что общие выводы делаются из крошечных предпосылок. И так все время, в главе о праздновании XX-летия Октября кто-то ляпнул, что праздник будет своеобразным Рубиконом, новым стартом, автор тут как тут со своим толкованием: «А-а-а, новый старт нужен? Это означает, что за предыдущие 20 лет ничего не сделано!». Все это начинает быстро утомлять, и ты начинаешь играть с автором так же, как играл, например, с Добренко – начинаешь ждать смешных фейспалмов. Автор не разочаровывает и щедро украшает ими страницы своей книги. Чаще всего проблемы с шутками. Так, рассказывая о методичке по проведению карнавалов в ДК железнодорожников, автор пишет, что автор пособия пытался пошутить, предлагая размещать плакатики вроде «сдавайте грустные мысли в гардероб вместе с одеждой». Да, шутка слабовата, но автор вытягивает из нее несколько страниц рассуждений о том, что в СССР считали мысли материальными, раз их можно сдать в гардероб.
Проблема таких нарративов состоит в том, что автор почему-то считает, что ее вариант прочтения – единственно верный. Из него, прочтения этого, делаются далеко идущие выводы. Но невооруженным взглядом видно, что можно, не умножая сущностей (Оккам с опасной бритвой не дает), построит куда-более непротиворечивый нарратив, который не потребует всего этого вороха нелепостей. Государство хоть и пыталось регулировать все, но быстро осознало, что это невозможно, и многие вещи пустили на самотек, отсюда все эти нерегулярности, косяки и проволочки. Они – следствия обычной человеческой жизни, а не тайного сопротивления режиму в виде идеологически невыдержанных елочных игрушек. Такой вариант прочтения лишен паранойи и потому кажется мне более верным, но кто его знает, может я просто не слишком бдителен, а Карен Петрон бдительнее и лучше знает?
Но потом автор переключается на мужскую любовь, и я опять прячу лицо в ладонях. Когда ты ставишь себе задачу найти плохое во всем, ты обычно его находишь. Нет женщин-летчиц – плохо, есть знаменитый женский экипаж – тоже плохо. Хвалят их, но хвалят не так, как надо Петрон. И понесло нашего автора вширь и вглубь. Папанин на льдине – образ советской власти. Смотрите, он проигрывает Кренкелю в шахматы! Значит, Папанин символизирует тупое, косное советское руководство, подавляющее более развитую интеллигенцию! Полярники пишут, что не бросали интересную партию даже в тот момент, когда под ними трескалась льдина? Тупая советская власть бесцельно рискует жизнью ценных кадров. Кстати, автор упоминает, что советские СМИ называли папанинцев самыми северными гражданами СССР. Мне понравился этот момент, на котором автор специально не останавливается – это любопытный признак нормальности, попытка соблюдать человеческие условности в необычных условиях. Хочется сравнить этот эпизод со сценой из американского фильма «Аполлон-13», когда астронавт извинялся перед президентом, что не подал налоговой декларации – это такая же по содержанию игра.
Я не зря упомянул про мужскую любовь, ведь автора сильно несло в рассказе о шовинистическом обществе мужского доминирования. Ненависть, как обычно, в глазах смотрящего – весь этот рассказ о том, что все эти полярные дела, все истории летчиков - это про мужское сообщество и мужскую любовь (слово гомоэротический в этой главе успевает надоесть глазам), весь этот рассказ возможен только из дня сегодняшнего. Гораздо проще прочесть все иначе – да, сложности были, но в СССР пытались, получив смешанный результат, продвигать женщин и демонстрировать их равенство. Тут и женщины-ученые на «Челюскине», и женские воздушные рекорды. Да, получалось не все, но ведь кое-что получалось, а пытались-то еще больше. В этом свете особенно забавно обвинение советского руководства в лицемерии (как обычно, на основании слов не первого или второго лица, а на основании слов одного из руководителей комсомола) и сознательном профанировании женского равенства. Один современный автор книг о российской истории XVII века обвинял Сталина и Ко в сознательном подрывании народного культа Скопина-Шуйского. Я поражаюсь коварству и трудоголизму Сталина и Ко, когда они успевали все это? И Скопина-Шуйского гнобить, и женское равноправие профанировать, и мужскую любовь развивать.
С этой мужской солидарностью вообще забавно. Автор книги – дитя своего века и своего общества, и, как обычно, опрокидывает свои проблемы в прошлое. Ей кажется, что слезы в глазах рабочих и крестьян при виде летчиков-спасителей челюскинцев – это слезы общего переживания мужского доминирования. Нам бы ее проблемы, скажу я вам. Думаю, что не ошибусь, если предположу, что дело тут совсем в другом. Слезы эти – это слезы гордости, гордости за себя, за сиволапых, за лапотников, которые теперь управляют крылатыми машинами в Арктике. Это классовое чувство, а не гендерное. Одиозный и любопытный Проханов в романе «Африканист» писал о кубинце, который рассказывал ГГ о том чувстве, с которым он бьет белых расистов в Анголе на советской реактивной боевой машине. Это гордость, гордость за то, что он, потомок рабов, увезенных с этого континента, теперь сильнее белых юаровских расистов. У встречавших первых ГСС, по крайней мере у части встречавших, было такое же чувство, уверен я.
Вот и Папанин в шутку называл себя одновременно и Русланом, и Людмилой. По автору это издевка над женщинами, ведь Папанин на льдине выполнял традиционную женскую роль – вел хозяйство, готовил, шил и т.д. А по мне это все что угодно, только не издевка – Папанин смело берет на себя ту часть работы, что традиционно считалась женской, выполняет ее и шутит, показывая, что это нормально для мужчины. Но о чем я, ведь Папанин шутит, а этот пласт реальности Карен Петрон недоступен.
Треск у автора в голове не прекращается ни на минуту. Стоит кому-то сказать что-то, что не укладывается в авторский идеальный образ, он сразу обвиняется в крамоле. Ляпидевский пишет, что не нашел общего языка с чукчами? Подрывает территориальное единство СССР. Т.е. нормальное разноголосие, нормальный разброс оценок воспринимается в штыки, как что-то, что означает подрыв устоев. Как я уже говорил, в органах такому цензору, как Карен Петрон, были бы рады.
Вторая часть книги была менее фейспалмовой, возможно потому, что в нее вошли более поздние статьи автора. Если в рассказе о праздновании ста лет со смерти Пушкина еще слышны отголоски забавной чуши, украшавшей первую часть книги (запомните, Пушкин – это знамя русского культурного империализма, всегда об этом думайте при чтении «Онегина» и любых других его стихов!), то глава о праздновании XX-летия Октября могла бы украсить любое исследование. Минимум треска, максимум информации. Особенно порадовало обнажение приема, когда кто-то из драматургов откровенно сказал, что не готов писать юбилейную пьесу в 1935-м, заранее, так как кто его знает, останутся ли оценки персонажей неизменными за два года? Интересно было и про образ Ленина, который решили в театрах не тиражировать – слишком уж он важен, как бы не профанировали бы на периферии. Автор, конечно, верна себе и постоянно вычитывает в юбилейной продукции крамолу, намеки на репрессии и тайную полицию. Но дело-то в том, что все было как раз иначе, люди, наивно, но верили, что все приметы режима Николая I остались в прошлом, что ни слежки, ни цензуры, ни необходимости борьбы с государством нет. И в этой наивности и состоит самая большая трагедия советского эксперимента, в этих невыполненных обещаниях. Но этот пласт Карен Петрон тоже не считывает, увы.
P.S. В книге есть ритуальные упоминания Фицпатрик, Коткина, Фуко и чуть менее ритуальные книги Кларк о советской литературе , но мне показалось, что особого влияния на мировосприятие автора никто из них не оказал.

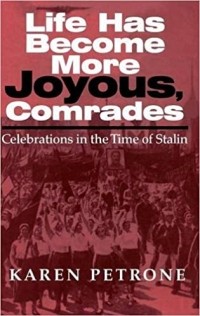
Комментарии
Как тебе уравнение Папанин+Шмидт=Сталин?
Мне показалось, что Папанин Петрон не приглянулся, она его в эту формулу запихнула только потому, что заменить некем. А вот Шмидт такой, каким она хочет его видеть - все эти сложности с женщинами, только вот заболел, зараза, не выдержал позу Сталина до конца. Вот сюда-то и пришьем кусочек Папанина.
"слезы общего переживания мужского доминирования" - эта пять )))
Спасибо!
Да не за что, все лавры должны достаться автору )
Судя по рецензии эта книжка - феерическая дичь.))
Ну что вы, дело, вероятно, в другом, я, как белый мужчина, просто не понимаю глубокой правоты автора.
А для меня сей взгляд на вещи слишком... эээ... свежий.
Меня, если честно, больше всего поразило, что этим дискурсом так легко манипулировать. Ведь никто (в здравом уме) не отрицает, что бывает и харассмент, и менсплейнинг какой-нибудь, но, оказывается, стоит щелкнуть пальцами, и все это выискивается в праздновании спасения челюскинцев и памятных мероприятиях по поводу столетия смерти Пушкина. Любую вещь можно профанировать, выходит.
Вспоминаются так называемые переосмысления, взгляд на какую-либо вещь с точки зрения современности, взгляд из настоящего. И вот под это дело, чего только не переосмысляют и чего только к чему не привязывают. Иногда даже страшно становится. Зато не перестаёшь удивляться.
"История — это политика, опрокинутая в прошлое". М. Н. Покровский знал, что говорил.