Больше рецензий
21 сентября 2020 г. 11:05
344
4 Everyone is Happy Now
РецензияВ своей книге с жовиальным названием Карен Петроун оспаривает идею, что советская власть использовала культуру для "тотализации" населения и создания единственной формы лояльности. Петроун полагает, что вследствие межведомственной борьбы власть не смогла сформулировать единственный официальный дискурс, который в результате стал крайне подвижным, что создавало возможности для различных интерпретаций, а нехватка квалифицированных кадров приводила к хаосу, бардаку и появлению лакун, в которых формировались механизмы сопротивления, использования и адаптации.
Иногда с примерами, иногда обобщая, автор показывает, как разные смыслы, вкладываемые центром (создающим дискурс), локальной властью (осуществляющей его) и гражданами (участвующих в нем) дают возможность создавать личностные, групповые и региональные идентичности, отличающиеся от той, что навязывалась и требовалась верхушкой партии. Один из самых простых примеров - колхозник мог участвовать в праздновании годовщины Октября, но при этом напивался в хлам, игнорируя тезисы о дисциплине и культурности.
Рассматриваемый период - тридцатые годы, даже скорее вторая половина, когда различные празднества и парады расцвели пышным цветом, вернули елку и вообще "жить стало веселее". Петроун по очереди разглядывает физкультурные парады, празднества по случаю полярных или авиационных подвигов, празднования Нового года и балы-маскарады, столетие смерти Пушкина, торжества по случаю принятия новой конституции и выборов в Верховный совет - и каждое лыко у нее в строку.
Ближе всего к собственной теме автор подходит в главе, посвященной пушкинскому столетию - там все очень богато и выпукло: эзопов язык, множество способов для интеллигенции выкопать для себя личную норку в официальном дискурсе, перекосы в организации, штурмовщина и противоречия в подаваемом сверху образе великого поэта.
Также, по мнению автора, официозная политика включала в себя противоположные параграфы, что приводило к критическим проблемам в построении Нового человека и создании советского народа; упор на дисциплинированность и коллективные действия во время физкультурных парадов, например, противоречил идеям свободы и добровольности. Прославляемая как вершина демократии Конституция 1936 года постулировала принципы, противоречившие реальным практикам режима - не заметить чего было невозможно и что приводило к реальным проблемам для агитаторов. Праздники, которые устраивали для того, чтобы скрыть недостатки управления и бардак в организации, приводили к инцидентам и даже катастрофам (гибель детей при пожарах на новогодних елках), демонстрировавшим именно то, что хотели скрыть.
Одна из основных идей книги заключается в том, что при каждом своем движении советская власть, формируя идеи инклюзивности (гендерной, расовой, национальной), фактически создавала эксклюзивность, выкидывая часть населения из формата. Например, даже самый лояльный режиму гражданин оказывался на обочине физкультурного парада, ежели не подходил по физическим кондициям, а дико популярная "Песня о родине" исключала женщин из единого целого всего одной фразой "Как невесту, Родину мы любим".
Важнейшая, красной нитью проходящая через всю книгу, тема - это закулиса Большого Террора, поскольку почти все описываемые и анализируемые события и процессы в книге происходят на фоне чисток, ссылок и казней, попадают под их влияние и сами влияют. В частности, чистки оказали значительный эффект на празднование революционного юбилея - многие авторы, драматурги и редактора оказались в местах не столь отдаленных, на остальных это подействовало самым расхолаживающим образом, что привело к полному провалу планов по массовому производству пьес, фильмов и книг про "Ленина в октябре".
Парадокс в том, что Петроун, показывая возможности для различных интерпретаций советского официального дискурса, сама становится объектом этого же трюка, ибо подразумевается, что уж ее-то толкование несомненно самое верное, что прямо скажем, в тексте выглядит убедительным далеко не всегда; скажем, ее разбор взаимоотношений полярных летчиков и чукчей мне показался сомнительным, поскольку на том же материале можно легко создать альтернативный анализ всего лишь немного повернув точку зрения. Кроме того, не совсем понятно (а то и сомнительно) - а существовал ли в рассматриваемый период времени демонстрируемая автором интерпретация: например, провал советской науки и техники овладеть стихиями Арктики в подаваемой как победа эпопее с челюскинцами? действительно ли советские люди могли видеть такие детали или это в голове у автора? Петроун активно использует предложенные Катериной Кларк образы, однако то, что отлично работает в литературе, вызывает множество вопросов, попадая в реальную жизнь.
Если попытаться подытожить мои ощущения и впечатления, то я бы сказал, что книга неимоверно интересна, и хотя анализ перегружен и не всегда убедителен, (а иногда, как кажется, происходит выдача желаемого за действительное), рассуждения автора и общий нарратив представляются стройными и самоподдерживающимися. Временами Петроун придает слишком много веса мелочам (даже учитывая, что в высокий сталинизм мелочей было мало), однако книгу можно и нужно похвалить за внятность, логичность, глубину и последовательность.

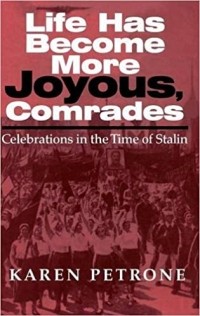
Комментарии
Любопытственно, добавлю в список. Что там за точка зрения на чукчей и полярных летчиков?
Петроун полагает - с ссылкой на дневники и воспоминания самих летчиков - что к чукчам они относились с откровенным расизмом; один из летчиков, некоторое время прожив со спасшими его чукчами, встретив советского доктора сказал что-то вроде "Слава богу, наконец-то живой человек!"
Спасибо за подробный разбор, интересно.
Добавлю, пожалуй, книгу в виш. Захотелось узнать побольше про разные типы советских идентичностей)
Не за что, люблю, знаете ли, поагитировать народ на что-нить :)