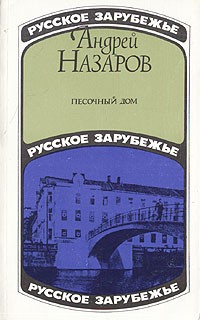Больше рецензий
18 июля 2020 г. 08:39
318
5 Книга, которую мы не читали
РецензияКНИГА, КОТОРУЮ МЫ НЕ ЧИТАЛИ
«Песочный дом» Андрея Назарова
…Произведения нашей литературы как ни редки, но являются, живут и умирают, не оцененные по достоинству.
А. С. Пушкин
Спустя семьдесят пять лет после победы Великая Отечественная война занимает умы и сердца, оставаясь актуальной темой и сегодня. Это достойный повод, чтобы рассказать о мало кому известном романе о войне Андрея Назарова «Песочный дом». У этой книги есть много отличий от тех, что мы знаем и любим.
Во-первых, автор не был ни участником, ни свидетелем войны. Но, читая книгу, об этом не догадываешься и узнаешь, только взглянув на дату его рождения — 1943.
Во-вторых, в романе нет сражений, но есть военные будни Москвы — с налетами немецкой авиации, с работой для нужд фронта, с фронтовиками, что лежат в госпитале, c калеками и жуликами, с попрошайками и одинокими женщинами, с Книжником, арестованным за рукопись, со стариками, детьми, милиционерами, — словом, со всеми, кто оставался в Москве и кого так или иначе объединяла надежда и вера в победу. Ею и заканчивается повествование, начало которого датировано августом 41-го.
В-третьих, главные герои романа — московские подростки и дети, чью повседневность определила война — не детская школа жизни, перевернувшая все нормальные представления о жизни: «А не страшно будет без войны жить?» — спрашивает один из мальчишек, когда уже отгремел победный салют.
В-четвертых, Великая Отечественная война дана в романе как опыт осмысления отношений народа и власти. Потому среди его главных героев не только дети, но и люди старшего поколения с их прошлым и настоящим. Так «заселяется» «Песочный дом» Андрея Назарова, смещая его временные рамки вплоть до пореволюционных лет. И роман становится не только романом о войне, но романом о России.
И, наконец, последнее по счету, но не по значимости: проза «Песочного дома» – это безупречное искусство слова.
Но обо всем этом чуть позже, а сейчас попробую ответить на вопрос, который напрашивается после такой преамбулы. Почему «Песочный дом», изданный в 1991 г. издательством «Радуга» и номинированный на первого Букера, остается «книгой, которую мы не читали»? Думаю, что одна из причин в том, что роман вышел в годы, когда на прилавки хлынула ранее запрещенная литература, и основной читательский интерес был сосредоточен именно на ней. В этой ситуации очень трудно рассчитывать на то, что новое литературное имя, не замеченное критиками, привлечет внимание читателя. На книгу было два отклика: сразу после ее выхода восторженная статья Жанны Васильевой в «Литературной газете», а в 1996 г. моя статья в «Звезде», № 4. Можно, конечно, добавить не так давно оброненное А. Кузьменковым — проницательным, но очень и очень недобрым критиком — редкое для него положительное суждение: «Андрей Назаров, автор „Песочного дома“, одного из лучших отечественных романов». И это все.
Но не будем бранить собратьев по перу. У каждого, видимо, был свой резон не заметить «Песочный дом». Д. Быков, например, в беседе с В. Дымарским, априори отрицал возможность существования литературы о войне, создатели которой не были бы ее участниками. На реплику Дымарского: «…Есть литература, написанная людьми, не знавшими войну», он отвечает, забыв даже о Высоцком: «Этой литературы нет… То есть не было даже попыток, понимаете?» Были, однако.
«В августе 1941 года во время вечерней бомбардировки Москвы в шестиэтажный дом за Белорусским вокзалом упала тяжелая фугасная бомба… — так начинается „Песочный дом“. — Нарастающий свист бомбы первыми уловили мальчишки, дежурившие на крыше, и Алеша Исаев успел крикнуть: „Прямое“, когда у основания левого крыла лопнул жестяной скат… Хрупкие мгновения скользили по жести. Было тихо. Бомба не взрывалась. Исаев горячо выдохнул застоявшийся в груди воздух, отбросил щипцы для зажигалок и бросился к пролому… „Не взорвалась! Не взорвалась!“ — кричал Алеша».
В бомбе вместо взрывчатки оказался песок, дом потому и окрестили «Песочным». Но это формальный повод для названия романа, которое можно понимать и как метафору советского дома.
Алеша — один из мальчиков, для которых двор становится центральным местом действия, а сами они сбиваются в сообщество, где своя история, своя иерархия власти, своя социальная лестница. Ее верхнюю ступень занимает Лерка — «сын генерала с ромбами из штаба РККА». Лерке противостоит Кащей, отец которого «любил от петровских времен родословную вести, вроде и тогда Кащеевы с кистенем погуливали». Есть здесь и свой «духовный центр». Это Авдейка, наделенный от рождения тем светом, который притягивает к нему и младших, и старших. Нижнюю ступеньку занимает Сахан, сын Маруськи-дворничихи и брат придурковатой Степки — самый сложный характер «Песочного дома».
Один из сильнейших эпизодов романа — бегство из Москвы в середине октября 1941 г.
«Москва бежала, и отсюда, с высоты каменных ступеней полукруглого крыльца, Машеньке открылось это бегство по единственно свободной от немцев артерии — старому пути на Восток, каторжной Владимирке, дороге русских энтузиастов, утоптанной кандальными ногами. Этот открытый путь страдания нес на себе уже утратившую порядок, сбившуюся, зловеще вспененную толпу, сквозь которую прокладывали путь автомобили, велосипеды и неожиданным татарским обилием хлынувшие обозы. Машенька глядела вниз, непонятным усилием выхватывая из неразлитного течения безымянной плоти детские башлыки, платки, кроличьи береты, ушанки, шляпы и задранные лошадиные морды в инее и храпе.
— Всеобщая эвакуация, — крикнула женщина и потянула Машеньку за рукав. Москву отдают!
Машенька поняла, что это и было знанием, поднявшим город в его поспешный исход, но что-то восставало в ней, мучительно сламывалось в груди, и, подавляя внезапную боль, она крикнула:
— Не отдадут! — и повторяла надсадно, уже стыдясь себя: — Не отдадут! Не отдадут!
Но женщина соскользнула в человеческую реку, несущуюся под улюлюканье автомобильных гудков, ржанье лошадей, скрежет полозьев по асфальту и вопли сорванных голосов, старавшихся отыскать друг друга и обещавших встречу в Рузаевке».
Эпизод занимает в романе несколько страниц, поражая той особой «кинематографичностью», благодаря которой видишь, как уходили, утекали люди из Москвы в те три октябрьских дня. Мне не приходит на память это бегство в других книгах о войне. Да его и не было, насколько знаю.
Особое место в романе занимает дядя Петя-солдат, прошедший еще Финскую войну. Ему в романе принадлежит ответ на сакраментальный вопрос русской литературы «Кто виноват?»
Перед последним вылетом, чувствуя, что везенье его кончилось, дядя Петя испытывает непреодолимое желание излить душу. Но писать ему некому, и потому он пишет письмо богу.
«Написал, что по жизни все исполнял до конца, не обходил, за другими не прятался. Конечно, на войну послали — не спросили, но и спросили бы — сам пошел, добровольцем. На то и страна, чтоб за нее воевать. Это власти думают, что мы их защищаем, — а те ли, другие над нами, а минут они, да мы-то останемся. Мы ведь народ, родина у нас есть. Живем тесно, горестно, как в котле нас власти перемешивают, сиротят, с корней рвут, а родину отнять не могут. Держит она, когда в белую смерть поднимаешься, когда пули трассирующие самолет твой вяжут...
Поговаривали стрелки в финском окружении про заградотряды и трибуналы новые разъездные — стреляют, дескать, нашего брата, поворотить не дают. Что ж, на то и война, в ней ряд нужен. Только стрелки те и без трибуналов не побегут, их другое удержит. А стреляют власти с тыла, потому что сами — дезертиры, вот и нас за предателей держат. Войну ведут неряшливо, изводят солдат почем зря, рвы ими застилают. Ненавидит дезертир верного, измену свою на нем вымещает... Зачем власти эти проклятые терпишь, Господи? Зачем дозволяешь им народ губить?»
Это письмо лежало в кармане куртки дяди Пети, которую надел летавший с ним пилот, думая, что дядя Петя убит. А на допросе не признался дядя Петя, что его это письмо. «Погубил он пилота, под расстрел подвел, от письма своего отрекся. А спроси те двое из контрразведки — отрекся бы и от Бога самого. Выходит, и посетил его Господь, на письмо ответил: предатель ты, дезертир, потому и власть над тобой такая», — так судит себя дядя Петя. Так на вопрос «кто виноват?» отвечает и писатель, горько сочетая беспощадность обвинения собственного народа со щемящей жалостью и состраданием к нему. Мысль об индивидуальной ответственности каждого предельно важна для понимания романа. Только она, эта ответственность, и дает право осознать себя личностью.
Становление характера, то нравственное усилие — отчасти интуитивное, отчасти воспитанное, — что делает человека Человеком — одна из центральных тем романа. Она трансформируется в каждом из главных героев по-разному, напоминая полифоническую поэму, фугу, где сплетается множество голосов. Вероятно, эта композиция романа, как и сам язык его, и заставили Ж. Васильеву написать: «Роман звучит, рождая иногда почти физическое ощущение музыки».
Но зачем все-таки писателю понадобилось время, которому он не был свидетелем? Я думаю, роман продиктован желанием осознать итоги. Но не свершений, а разрушений, нанесенных советской жизнью народной жизни. И в этом противостоянии советской жизни народной выяснить, чья взяла. Народ у Назарова, как, к слову, и у Виктора Некрасова, защищает не советскую власть, а свое право называться Человеком.
При всей очевидной реалистичности романа, он больше чем просто роман о войне и военном детстве. Он охватывает не только исторический момент, но историческое бытие России. Вообще. Не в частности. И его герои — Авдейка, Сахан, Кащей, Алеша — не только живые, осязаемые, реальные мальчики с неповторимыми индивидуальностями, не только дети эпохи, но и дети нации. Эти характеры национальны и потому легко представимы в любые времена русской истории — что при Иване Грозном, что при Петре Первом, что на Сенатской площади, что на Болотной.