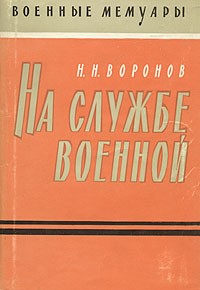Больше рецензий
6 февраля 2020 г. 13:08
184
5 «Уже знаем. Не беспокойтесь»
Рецензия«война дело простое, вот только нужно уметь воевать!»
«Многие говорили, что красноармейцу нельзя давать автоматическую винтовку, иначе патронов для нее не напасешься.»

Николай Николаевич Воронов, главный маршал артиллерии.
Хоть и пишет в самом начале своих воспоминаний товарищ маршал, что его жизненным принципом был «коль знаешь, так стой на своем, докажи, что прав», однако далеко не всегда ему хватало твердости следовать этому принципу. И не удивительно, ведь его становление пришлось на годы большевистского переворота, когда Воронов, будучи курсантом, замазывал царскую кокарду на фуражке красной краской. Но ведь реальность так просто не перекрасишь. Вот и Воронов, не успел заделаться убежденным безбожником, чтобы угодить большевикам, как вдруг товарищ Ленин подписывает постановление Совета обороны от 16 апреля 1919 года. «Отпустить всем красноармейцам на первый и второй день пасхи приварочное довольствие и сахар в полуторном размере». Вот вам и антирелигиозная пропаганда. Но быстро Николаю Николаевичу объяснили, что армия стала большой, состояла из крестьян большей частью и нельзя было их лишать права на веру. И заставили Воронова слова эти задуматься. Он становится командиром артполка, принимает участие в учениях и даже получает похвалу от Тухачевского. Затем его направляют в составе военной миссии в Италию на большие военные маневры. Интересно, что итальянцы демонстрировали отличное отношение к русским и полное пренебрежение к английским, американским и французским военным. Уже тогда в итальянской армии было обилие полевых радиостанций. Потом Воронов «повоевал» с «фашистами» в Испании. Впрочем, о манипулятивности испанских борцов с Франко говорит тот факт, что батареи республиканцев добросовестно долбили указанные ранее квадраты. Для переноса огня требовалось решение высших инстанций, и, чтобы уговорить их, нужно было немало времени. По сути, республиканцы Испании просто уничтожали свою страну, при помощи большевиков, которые до того уже успели искупать свою родину в крови гражданской войны. Накануне войны Воронова назначают начальником артиллерии Красной Армии. Он сталкивается с Г.И. Куликом, заместителем наркома обороны, который поставил перед промышленностью задачу производить красивые орудия. Ненужная красивость пошла за счет значительного снижения количества производимых орудий. «Вскоре выяснилось, что погоня за показной красотой, прилизанностью орудий привела бы к сокращению производства орудий на 20 процентов.» Когда Воронов выступил за создание заводов для выпуска гусеничных тягачей и за перевод орудий на механическую тягу, то Кулик вместе с Д.Г. Павловым (тогда он был начальником автобронетанкового управления) выступили против. «Они заверили, что и существующие заводы полностью удовлетворят наши заявки. К сожалению, их заверения остались пустым звуком. До сих пор не могу себе простить, что не добился осуществления этого предложения. Два завода на Урале могли быть построены уже к концу 1939 года, и задолго до начала войны мы получили бы их продукцию, столь нужную для нашей артиллерии.» Уровень намеренного вредительства в СССР накануне ВОВ зашкаливает, такое чувство, что были подкуплены или завербованы почти все более-менее высокие начальники, от подписи которых зависело многое. «В одном из отдаленных военных округов получили рабочие чертежи деревоземляных блиндажей для полигонов. Начальник артиллерии округа заявил, что эти чертежи, поступившие из инженерного ведомства, являются вредительскими. Я затребовал их. Блиндажи для размещения полигонных команд, наблюдающих за ходом стрельб, должны были надежно выдерживать одно прямое попадание 152-миллиметрового снаряда. По документам же было установлено, что блиндажи разрушались лишь при третьем, четвертом и пятом прямых попаданиях. Таким образом, их прочность оказалась выше возможных ожиданий.» Кругом была показуха ради журналистов, впрочем, как и современное время. Парашюты надевались перед объективами камер, а на самом деле из самолета было невозможно вылезти даже без парашюта, настолько маленькими были выходы. В итоге парашюты просто забрасывались на полку. Во многом мемуары Воронова перекликаются с воспоминаниями Калашникова, те же слова боли и обиды за отношение к советским конструкторам и изобретателям. В принципе, когда и среди командиров превалировали недалекие в умственном плане герои гражданской войны, то нельзя удивляться тому, что солдат хотели заставить воевать одним штыком и винтовкой. «Многие говорили, что красноармейцу нельзя давать автоматическую винтовку, иначе патронов для нее не напасешься.» Вот и утилизировали спокойно наших бойцов начиная с боев на Карельском перешейке. «Командир одной из стрелковых дивизий полковник Зайцев уверял меня, что минометы хорошо используются. И вдруг выяснилось, что за последние трое суток в дивизии не израсходовано ни одной мины. Стали проверять, и оказалось, что по приказанию командира дивизии минометы даже не были выданы в стрелковые полки и продолжали лежать на складе.» Цинизмом можно назвать и то, что, при скотском отфутболивании качественных изобретений наших конструкторов, товарищ Сталин дает поручение Воронову заниматься рассмотрением всех предложений от народных умельцев, дабы помочь Красной Армии. В итоге, Воронов не мог заниматься артиллерией, а должен был большую часть времени тратить на фантастические проекты. А даже специальной техники для обнаружения мин не было… Кулик вскоре начинает разрабатывать проект ликвидации должности начальника артиллерии Красной Армии и его аппарата и передачи их функций в ГАУ, то есть Кулику. Поражает бесхребетность Сталина в этой истории, такое ощущение, что из будущего «тирана» и великого «репрессолога» веревки вили все подряд. Хитрый Кулик нагло убеждал Сталина, что ему, Кулику необходимо расти и поэтому он должен быть переведен на новое, более важное место работы, а Воронова предложил назначить на его место, начальником практически уничтоженного Куликом ГАУ. Естественно, что Воронов не захотел возглавить такое ведомство, но выиграл от этого снова Кулик, он был оставлен на старой должности, а Воронов стал его заместителем. Затем Воронова, снова таки в большевистском стиле, назначают начальником Главного управления противовоздушной обороны страны. «— Вы должны взяться за эту работу всерьез и надолго. Вообще-то все уже предрешено, мы ждем только вашего согласия.
— А если его не будет? — спросил я.
— Все равно вы будете назначены, Николай Николаевич.
Мне оставалось сказать, что я согласен.» До начала войны оставалось меньше трех недель. В системе ПВО также был бардак, все с нетерпением ожидали немцев. От Воронова ничего не зависело, его словно заранее решили сделать козлом отпущения. «Система управления войсками ПВО была весьма нестройной. Так, например, вся служба воздушного наблюдения, оповещения и связи (ВНОС) находилась в ведении непосредственно главного штаба ПВО в Москве, а все активные средства противовоздушной обороны подчинялись командующим военными округами и лишь по вопросам специальной подготовки — начальнику Главного управления ПВО.» В апреле, мае, июне в Генеральном штабе составлялись документы большой важности. В них сообщалось о больших оперативных перевозках немецких войск к нашим западным границам с перечислением номеров корпусов, пехотных и танковых дивизий. Но никаких выводов не делалось. Война, типа, не могла и не должна была начаться. Вообще непонятно, как функционировала советская система. Ведь, если, по логике того же Сталина, немцы – друзья, то как можно было тому же Воронову заниматься системой развития ПВО? Все противоречило всему! Если приказ Сталина был «не поддаваться на повокации и не провоцировать немцев, то как можно объяснить следующее:
1. «Было известно, например, что наши войска, стоявшие на западных границах, не выводились на свои рубежи обороны в приграничную полосу из-за боязни спровоцировать войну. Но вместе с тем в это же время осуществлялись большие оперативные перевозки войск из глубины нашей страны к западным границам. Шли сюда небоеспособные части, которые нуждались в людских пополнениях, оснащении вооружением. Вдогонку им двигались многочисленные транспорты с техникой и боеприпасами. Это большое оживление на железных дорогах легко могло быть вскрыто агентурой противника и его воздушной разведкой.»
2. Военно-воздушные силы совершенно неоправданно размещались по мирной дислокации. Почему нельзя было под видом обычных учений рассредоточить их по полевым аэродромам, а всю истребительную авиацию приграничных округов нацелить на противовоздушную оборону войск, командных пунктов и важных тыловых объектов?
3. Как могло наше руководство, не построив нужных оборонительных полос на новой западной границе 1939 года, принять решение о ликвидации и разоружении укрепленных районов на прежних рубежах?
4. Многие наши части, находившиеся в приграничных округах, перед началом войны не имели даже винтовочных патронов, не говоря уже о боевых снарядах. Не без ведома Генерального штаба средства механической тяги в это время изымались у артиллерийских частей и использовались на строительстве укрепленных районов вдоль новой западной границы. В результате орудия остались на «приколе», их невозможно было применить в неожиданно развернувшихся боях.
5. Широкая сеть постов ВНОС подробно сообщала обо всех полетах немецких разведывательных самолетов над территорией наших приграничных округов. Эти данные наносились на специальные карты и немедленно докладывались в Генеральный штаб. Очень часто нам отвечали: «Уже знаем. Не беспокойтесь».
Были, правда, командиры, которые, на свой страх и риск, держали свои части в боевой готовности. «Например, 16-й стрелковый корпус Прибалтийского военного округа к маю 1941 года скрытно подготовил главную полосу обороны вдоль государственной границы. Артиллеристы корпуса, обеспокоенные усиленным сосредоточением немецко-фашистских войск в этом районе, подвезли на огневые позиции боеприпасы. Командование округа, узнав об этом, приказало вернуть боеприпасы обратно на склады. Артиллеристы, с разрешения командующего армией, не сдали боеприпасы.» Во многом, благодаря таким командирам, немцам не была везде открыта дорога.
О Жукове: когда Жуков узнал о том, что в Прибалтийском военном округе ввели затемнение городов и отдельных объектов, имеющих военное значение, то Жуков немедленно запретил проведение таких затемнений в других приграничных округах, а Прибалтийском округе затемнение было отменено!
Тимошенко был озабочен лишь тем, чтобы прикрыть свой зад, беря расписки за получение идиотских приказов со всех подряд.
Интересный факт: на случай войны, в каждом военном округе, в каждой части, у каждого командира имелся секретный пакет с сургучными печатями и надписью: «вскрыть по мобилизации». Вся хитрость в том, что мобилизация не была объявлена в нужное время и пакеты боялись вскрывать…
Ставка в первые дни войны занималась идиотскими совещаниями, без конца обсуждали, какую оставить винтовку на вооружении пехоты — пехотного или кавалерийского образца? Нужен ли штык? Трехгранный или ножевого типа? Не отказаться ли от винтовки и не принять ли вместо нее карабин старого образца? Много занимались ружейными гранатами, минометом-лопатой. По этим видам вооружения запрашивалось мнение командования фронтов и армий. Ответы приходили самые разнообразные и противоречивые. Первыми выстрелами, которые зенитчики Москвы сделали в июне 1941 года, были выстрелами по советским самолетам, которые самочинно и без всякого предупреждения отправили в Москву с одного из фронтов (не Конев ли, и не с нормальными генералами ли на борту?) «Не успела смолкнуть стрельба, начался разбор этого инцидента. Меня срочно вызвал Л. 3. Мехлис, якобы получивший поручение свыше расследовать и определить мою личную виновность в обстреле своих самолетов.» Главное, что руководство больше переживало о том, что подумают люди, а не о трагизме ситуации. «Неприятное ночное событие решили считать учением противовоздушной обороны Московской зоны ПВО. Тут же было сформулировано официальное сообщение для печати.» Ставка обеспокоилась обороной Украины и весьма вовремя начала заниматься строительством оборонительных рубежей. Сталин решил назначить Воронова руководителем этого строительства. «Пришлось доказывать, что я вовсе не специалист этого дела. Посоветовал возложить работу по строительству рубежей на начальника Главного инженерного управления, ведь она же непосредственно входит в круг его обязанностей. Оба были удивлены:
— Разве такой у нас есть?
— А как же. Начальником инженерного управления у нас генерал Котляр.» Вот так вот и воевали в первые годы войны, не воевали, а делали вид. Умиляют многочисленные описания бесед в Ставке, особенно, когда Сталин внезапно спрашивал, как же так получилось, что армия осталась без начальника артиллерии. В то же время, несколько артиллерийских училищ отправили на фронт, как обычные строевые части. Узких специалистов просто и открыто утилизировали. Осенью 1941 года Ленинград даже никто и не думал эвакуировать. Потребовалось создавать целую комиссию с Вороновым в ее составе для того, чтобы понять, что бои разворачиваются не на ближних подступах к Берлину, а под стенами Ленинграда. Артиллерией Воронову, словно специально, не давали заниматься. Вскоре командование Ленинградского фронта попросило Ставку снова командировать его в Ленинград для оказания помощи в проведении частных наступательных операций. И добрый Сталин не мог отказать никому, хотя на совещаниях все недоумевал, почему артиллерия в таком плачевном состоянии… Понадобилась война для того, чтобы понять, что в СССР не было даже проводов и телефонных кабелей для налаживания связи. Пришлось все срочно по супер высоким ценам закупать у иностранцев, которые только того и ждали. Если верить Воронову и все, что он описал в своих мемуарах правда, то система правления СССР заключалась в том, чтобы под видом благих намерений, сталкивать страну в ад, или в пропасть. Под видом прикрытия артиллерии, Сталина уговаривали на выделение взвода пехоты на каждую батарею, а роты – на дивизион. Бедный Шапошников, сделав расчеты, едва не застрелился: десятки стрелковых дивизий пришлось бы снимать с фронта…
Печально, что этот список можно продолжать до бесконечности. И никто не старался понять, что причиной этих бед не просто было появление таких товарищей, как Кулик, Павлов, Конев, Жуков и Тимошенко, а то, что их, словно современных «эффективных» менеджеров, кто-то навязывал тому-же Сталину и тот, бедняга, из всех сил старался выкрутиться и хоть как-то, при этом, сохранить лицо. А это было ой как нелегко. Монетка судьбы постоянно переворачивалась в не угодную нам сторону. Типичной картинкой войны может служить история с 57-армией Толбухина, которая летом 1942 года возвела мощнейшие укрепления и оборонительные сооружения на западных подступах к Сталинграду, а затем последовал приказ отступить. «А теперь обстановка сложилась так, что окруженные немецко-фашистские захватчики использовали эти рубежи для своей обороны. Федор Иванович теперь шутливо сожалел о том, что он в свое время сильно «нажимал» на строительство этих оборонительных укреплений. Он показывал мне карты и схемы их. В левом верхнем углу красовалась крупными буквами его резолюция «Утверждаю».
— Эх, на свою же голову построил я все это! — с усмешкой восклицал боевой генерал.»
В общем, воевали не только с немцами, воевали за пресловутую первую траншею, но больше всего воевали сами с собой. Хорошо, хоть себя не победили. Аминь!