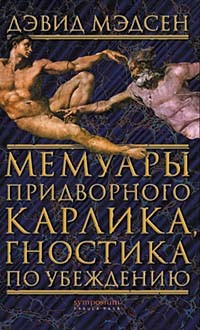Больше рецензий
10 января 2020 г. 18:34
275
5 Маленький человек эпохи Возрождения
РецензияЗлая, трагическая, непристойная и страстная книга. Грязный, жестокий, безумный мир Высокого Возрождения, увиденный глазами "урода", — горбатого карлика, человека-игрушки.
Эпизод. Маленький Пеппе — маленький, ибо и карлики бывают детьми, — помогает своей матери, торгующей дрянью, которую она слегка разбавляет вином и вином же называет. Пеппе толкает по грязным улицам бедного римского квартала Трастевере тележку с бутылками. Из-за врождённого увечья он неуклюж, а колёса тачки застревают в разбитых мостовых (забавно, но мостовые в Риме мало изменились). Время от времени тележка застревает, Пеппе пытается её подтолкнуть, и порой бутылки падают на землю, а то и ему на голову. Однажды бутылка разбивается о голову ребёнка, и его мать находит этот случай настолько смешным, что разражается диким хохотом, настолько неудержимым, что из-под юбки на мостовую хлещет струя её горячей мочи.
В этой маленькой сценке мы видим одновременно и картинку нравов блестящего папского города, и ужас жизни Пеппе, и пронзительное, звенящее одиночество страдающего существа, рождённого на потеху здоровым и сильным. В книге много сцен, подобных этой: в них оживают яркие картины пёстрой, полусредневековой, непристойной римской жизни и оживает бесконечная боль. Эти два начала — стихия хохочущей жизни и молчаливое страдание — создают тот фон, на котором разворачивается история Пеппе, Джузеппе Амандонелли.
И в каждой сцене, подобной этой, бьётся пульсирующей болью раскалённый вопрос, один и тот же на разные лады: для чего такая жизнь дана Пеппе милостивым Богом? Почему Он создал его таким? Может ли Пеппе верить в то, что Бог есть любовь? Может ли он воспринимать мир не как полную издевательского юмора трагедию?
Это главный вопрос книги, в заглавие которой не случайно вынесено Credo героя: гностицизм. Одно из еретических учений, наследовавшее исканиям катаров, главным постулатом которого является богоборческая максима: этот мир слишком страшен и злобен, чтобы быть созданным Богом, мир и материя — порождение сатаны.
Люди, исповедовавшие это учение, не отвергали Бога, но страдали из-за разлучённости с Ним, из-за зияющих разрывов между благодатью и злой, грязной реальностью. Они видели с горечью и болью, что им — им Бога не за что благодарить. Но стремление слиться с Богом, обрести Бога, пробиться к Богу было сильнее безжалостных фактов, и это страстное стремление к обретению Бога разбивало факты вдребезги, создавая собственную картину мира, в которой Бог был по-прежнему милостив, благ, велик, но — отделён от Своих детей чем-то вроде дьявольской стены, и надо было пробить собственным лбом эту стену, чтобы там, за гранью земной жизни, обрести, наконец, покой в Его объятиях.
Такой — рождённой отчаянием и страстной любовью к Господу — была эта еретическая вера, и, когда читаешь мемуары Пеппе, порой кажется, что лишь еретики-гностики и были подлинно верующими христианами в сердце христианского Запада в его блестящую эпоху. Пеппе, карлик при дворе Папы, мог бы это подтвердить, рассказав пару историй из жизни папского двора. Впрочем, он не сплетник, он лишь мемуарист.
В теле этого карлика-горбуна, вызывающем насмешки и брезгливость, живёт душа, умеющая не только страдать. В уродливой оболочке заперт глубокий утончённый ум, большое нежное сердце, тоска по идеалу. Как ни странно, Пеппе повезёт: его ум получит возможность развиваться, и вскоре этот маленький человечек начнёт так разговаривать и так шутить, что понять некоторые его утончённые замечания и остроты можно будет только со словарём. Кстати, о словарях: все иностранные выражения и слова в тексте оставлены без перевода по желанию загадочного автора книги Дэвида Мэдсена, о котором смутно известно лишь то, что он — возможно — католический священник. Но при чтении мемуаров его Пеппе в тупик порой ставят не французские или немецкие фразы, а то, что и как Пеппе говорит на родном итальянском (то есть, на английском, то есть, на русском): впервые в жизни при чтении художественной книги мне понадобились энциклопедии и словари, и всё из-за лексикона нашего гностика, родившегося в сточной канаве.
Бог будет милостив к Пеппе не только в этом. Ему, отверженному, удастся познать и дружбу, и любовь. Одним из его друзей станет Папа Лев Х из рода Медичи. С эпизода в личных покоях Папы книга и начнётся, причём начнётся сразу так, чтобы отпугнуть всех благовоспитанных и слишком целомудренных читателей: неприличной сценой с непочтительными комментариями Пеппе, спокойно, как о чём-то заурядном и всем давно известном, рассуждающим о непотребном поведении Папы. Язык тоже сразу поставит точки над "i": примерно во второй фразе прозвучит слово "жопа", а после пойдут слова ещё забористее.
Читатель, который не испугается такого зачина и пойдёт дальше, увидит, что под прикрытием едкого языка живёт трогательнейшая нежность, неловкая, стесняющаяся сама себя, но истинная дружба двух очень разных людей: Папы и его придворного карлика. Эта вот нежность, мерцающая из-под наростов грубости, жестокостей и жирной грязи, не раз будет озарять страницы этой странной книги, постоянно соединяющей несочетаемое и выражающей невыразимое. Маленькие огоньки человеческого тепла, дружбы, любви, милосердия будут вспыхивать тут и там на самом дне клоаки, которой в обычное время будет казаться жизнь. Эта нежность связывает не только пару странных друзей, она рождается неожиданно и постоянно. Даже в отношении Пеппе к его злейшему врагу, беспощадному фанатику-инквизитору Томазо делла Кроче, появится странная нота сострадания, человечности, милосердия. Эта линия долго кажется очень странной, неестественной, тем более, что в силу некоторых поворотов сюжета, о которых я умолчу, она не должна вырастать из той извращённой близости, которая порой соединяет палача и жертву. Но в какой-то момент эта линия вдруг начинает казаться понятной. Если читателю удастся принять естественность даже таких безумных движений раненой души Пеппе, возможно, удастся заодно и совершить чудо: оказаться там, внутри книги, в её дикой и завораживающей реальности, в ночном Колизее, ступени которого шевелятся в темноте, потому что на них спят бездомные и занимаются любовью бродяги, а на арене — на арене, как положено, происходит поединок.
Эта книга — наваждение, которому нельзя верить, но она заставляет себе верить. Одним узлом она завязывает век Возрождения, искреннюю веру и грехи, достойные пера Светония.
Книга эта безжалостна и безумна, но в самой своей сердцевине — благородна и изысканна, и сердцевина горько плачет о страданиях, которые смакует словесная оболочка.
Книга чем-то похожа на Пеппе.
Ведь у него та же проблема с сущностью и оболочкой.
Книга чем-то похожа на мир, в котором из-под мерзости пробиваются к жизни вера, искусство, гуманизм. Папский двор — жалкое и грязное зрелище, но именно в сердце Ватикана живут Станцы Рафаэля, в апартаментах человека-дьявола Борджа находятся потолки Пинтуриккьо, а совсем рядом сияет Сикстинская капелла.
Кстати, разве не безумие уже то, что эти два имени — Борджа и Пинтуриккьо — стоят рядом? А они стоят, и это уже не литература, а жизнь эпохи.
А телесная оболочка карлика так настойчиво лезет на глаза, что нужны время и усилие, чтобы вдруг понять, где же в этой книге об эпохе Ренессанса дух Возрождения. Он всё время был здесь, в образе Пеппе: полиглота и гуманиста, писателя и музыканта, благородного, верного, храброго, утончённого, прямодушного, щедрого. Не лишённого, впрочем, предрассудков своего века.
Но жизнь, в которой живёт Джузеппе Амандонелли, изуродована и искривлена, возможно, сильнее, чем его тело. Впрочем, в этой жизни возможно всякое.
Здесь погибает на костре инквизиции прелестный ангел, а в путешествующем по Италии "караване уродов" публику развлекают демонстрацией человеческих увечий и ожогов; здесь социальные границы стираются общим страданием или родственным чувством юмора; здесь можно убить друга и пытаться спасти врага; здесь светлые гении Рафаэль и Леонардо, не говоря уж о папах и кардиналах, показаны с неприглядной изнанки, а несчастная женщина с ладонями, растущими из плеч, вдруг предстаёт красавицей. Здесь часто кажется, что мир — это кошмарный сон, и гностики правы. Но рано или поздно именно здесь случается нечто, и больной, страдающий мир заливает солнечный свет. Здесь Пеппе сочиняет дивную канцону в память о погибшей возлюбленной, потому что и в его жизни была удивительная история любви, пронесённая через всю жизнь.
Но в целом эта книга — конечно, трагедия.
P.S. Обложка книги обманывает. Книга непристойна, но пошлости в ней нет.