Больше рецензий
13 декабря 2019 г. 07:08
1K
4.5 Донеси на ближнего своего
РецензияДобротное позитивистское исследование. Автор, как Скрудж Макдак в золотых монетах, купается в бесконечных гражданских войнах, от древних греков до Ирака в начале XXI века, пытаясь вытрясти через сито пустую породу и оставить самородки общего, рациональные зерна. Делает он это методично, долго, но не занудно.
Я плохо знаком с социологией, тем более исторической. Однако не могу не заметить, что авторы, вроде Манна и Каливаса, прикладывают отчаянные усилия, чтобы дать количественную оценку социальным процессам. Результат, как минимум, любопытный, так как позволяет смотреть на события с нового ракурса.
Итак, Каливас хочет вычленить из гигантского и разрозненного материала логику развертывания событий. Для начала он определяет в качестве гражданского конфликта любой конфликт, идущий между гражданами государства, в том числе и в случае иностранной оккупации. Таким образом в поле внимания попадают такие конфликты, как партизанские действия на оккупированной территории СССР во время Великой Отечественной, борьба вьетнамцев с японцами, французами (о них почти ничего не было сказано), американцами и другими вьетнамцами, бесконечные интервенции США в дела латиноамериканских республик и т.д. С одной стороны, такой подход действительно позволяет существенно расширить базу исследования и говорить о почти универсальных закономерностях. С другой же, под такие широкие критерии можно загнать почти все, так как всегда есть локальная грызня, в которой одна или обе стороны пытаются использовать силы уровня выше местного для решения своих проблем. Вплоть до парковочных войн в ЖК на окраине Питера. Автор отсекает такие раздоры наличием насильственных смертей, но кажется мне, что логика несмертельного насилия окажется несильно другой, если вскрытые закономерности перенести на этот микро-микроуровень.
Само насилие автор делит на неизбирательное и селективное, сосредотачивая внимание на селективном, т.е. на случаях, когда насилие к гражданским применяется в целевом порядке. Мотором насилия против гражданского населения в гражданских войнах автор видит именно локальные разломы. При этом линии прохождения разломов плохо выводимы из предыдущего опыта поселения. Автор пытался использовать статистику по количеству исков в деревнях, по голосованию на выборах, но все это оказалось плохим предиктором для уровня насилия во время гражданской войны. При внешнем взгляде все выливается в клановость, семейственность, насилие над знакомыми. Но как это работает? Схема проста – как только появляется сила, которую можно использовать для применения насилия, люди начинают доносить друг на друга. При этом насилие, судя по имеющимся данным, чаще применяется в отношении лиц, совершенно невиновных перед национальным уровнем каких угодно повстанцев и оккупантов, на локальном уровне в политических девиациях обвиняют из-за ссор, неразделенной любви, границ участков, коз, кур и прочего. Силы национального уровня крайне небыстро соображают, что их используют для совершения местных разборок.
При этом само применения насилия сторонами конфликта против людей, на которых донесли, обусловлено степенью контроля над территорией. Автор разделяет объекты на пять классов. 1 – контроль правительства/оккупантов, 5 - повстанцев, 3 – равное влияние сторон, 2 и 4 – преимущество одной из сторон с небольшим влиянием второй. Автор теоретизирует, что в зоне 3 насилия почти не будет, в зонах 1 и 5 тоже, а вот в 2 и 4 будет самый высокий уровень насильственных смертей. Затем он исследует свои предположения на примере гражданской войны в Греции. И о чудо, данные эти подтверждают его теорию. Вопрос, конечно, в том, как автор распределяет деревни в Арголиде по классам, ведь от этого зависит и результат исследования, но трудно поймать Каливаса в злонамеренности, по крайней мере такому дилетанту как я.
За схемой стоят жизни. В оспариваемой зоне партизаны казнят потенциальных и реальных (на их взгляд и на основе доносов) коллаборантов, оккупанты/правительственные силы убивают тех, кого им представили как сочувствующих/работающих с партизанами. Само местное население довольно спокойно переносит переход из зоны 1 в 5 и обратно, люди чаще всего хотят просто выжить, что позволяет автору говорить, что идеологические мотивы почти не являются причиной смерти гражданских лиц в исследуемых конфликтах.
Как всегда с эмпирическими исследованиями, в результате мы знаем, как что-то происходит, но можем лишь строить догадки – почему так происходит. Но и то, что мы знаем вероятность включения механизма эскалации насилия в той или иной местности дорогого стоит, по крайней мере мне так кажется. Трудно удержаться от желания применить схему ко многим современным войнам.
Печальнее всего, что движущая сила заметной части насилия находится в самих обществах. Каливас говорит о том, что в почти эгалитарных сельских общинах как раз такое насилие вспыхивает легко, так как даже небольшое вырывание вперед по доходам (или еще по какому-то показателю) порождает жгучую зависть. И как только появляется кто-то, готовый насилие применять, донос не заставит себя ждать. И хочется опять вернуться к примеру с парковочными войнами – вот он, повод-то, ничем не хуже остальных. Каливас, правда, утверждает, что атомизированное современное общество дает меньше поводов для накопления темного социального капитала, но я позволю себе ему не поверить, ничего здесь не изменилось, разве что чуть-чуть внешне.
Перевод в целом нормальный, огрехов несколько меньше, чем в «Фашистах» Манна, однако несколько досадных ляпов прокрались на страницы издания. ‘Student’ и ‘division’ – это не «студент» и «дивизион» в контексте книги, а «исследователь» и «линия раздела». Не соблюдена последовательность транслитерации фамилий («Пшеворский» встречается в заметном числе вариантов, например), а с островами постоянно употребляются разные предлоги (то «на Керкире», то «в Керкире»). Больше всего опечалился я в тот момент, когда переводчик счел Шейлу Фицпатрик мужчиной и склонял глагол соответственно. Но на фоне недавно обнаруженной Франкфуртской экономической школы в переводе книги Мокира все это мелочи.

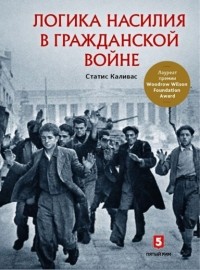
Комментарии
Судя по твоему отзыву это гадание на кофейной гуще. Оценка высокая, но прочитать желания не возникло.
Не совсем понял - почему гадание на гуще? Данных у автора несколько больше, чашка почти полна. Он все же, хоть и упоминает Фукидида и Макиавелли, сосредотачивается на XX веке, а тут есть где разгуляться. Одновременно и сила, и слабость книги в том, что автор пытается создать теорию механизма развертывания и свертывания насилия обеих сторон конфликта против гражданского населения. На основе приведенных фактов теория выглядит довольно стройной и интересной, но вопрос в целеполагании - кто будет ее применять? Оккупационные армии? Повстанцы? Обычному же читателю книга оставляет послевкусие довольно скверное, ибо весь накопленный опыт говорит, что в случае гражданского конфликта/оккупации сегодняшние соседи могут стать опаснейшими врагами. Но на территории бывшего СССР в этом и убеждать вроде бы никого не надо, у нас печальный опыт недавних войн есть.
Что такое гражданская война - не уточнено, сам пишешь. Разделение на некие группы похоже на случайное. Статистические данные на такую тему слишком обширные и можно доказать ими почти любую заранее заданную тему.
М, я писал о том, что автор намеренно расширил круг исследуемых им конфликтов, включив в него и таковые с заметной долей участия других государств. Т.е. война во Вьетнаме между Южным при поддержке США и Северным при поддержке СССР и КНР попадает в выборку. Более мелкие раздоры исключены критерием насильственной смерти. Так что понятие уточнено, просто оно не совпадает с интуитивно понимаемым. Вот разделение на группы действительно читателем никак не проверить, тут ты прав.