Больше рецензий
13 июня 2019 г. 12:27
335
5 Бумажные солдаты
РецензияДоцент истории в Университете Рочестера Мэттью Лено внимательно изучает, как советская пресса отходила от агитации времен Гражданской войны к пропаганде времен НЭПа, а потом снова - к агитации Первой пятилетки. Разница между этими понятиями, с точки зрения автора, заключается в цели и масштабе: пропаганда служит образованию и просвещению, агитация - мобилизации и организации; пропаганда - теория, агитация - практика; пропаганда - общее, агитация - конкретное. Исходя из этой дихотомии, автор рассматривает не отказ от плюрализма при переходе от НЭПа к культурной революции, но сдвиг от просвещения к мобилизации.
Рассматриваются, конечно, не все газеты - в первую очередь центральные и под контролем ЦК - Правда, Известия, Крестьянская газета, Рабочая газета, но есть также и так называемые "вечерние" - которые были направлены не на партактивистов и рабочих, а на белые воротнички и менеджмент, и по контенту и языку, по мнению Лено, были схожи с американской прессой - типа Вечерней Москвы; кроме того, он рассказывает и о провинциальных газетах, отличившихся во внедрении массового журнализма - Тверская правда, Уральский рабочий, Луганская правда. Хотя - только русскоязычные: автор оговаривается, что газеты на национальных языках еще ждут своего исследователя.
На основе анализа заголовков, использования военных терминов, появления и исчезновения рубрик, целевой аудитория, финансовой независимости и колебаний тиража (отдельно стоит упомянуть, что в монографии удачно использован лингвистический анализ шаблонов газетного языка и его изменений - от военного коммунизма к НЭПу, от него - к великому перелому и индустриализации. Анализ этот именно там, где надо, не забивает общий рассказ о становлении советской печати и служит не вещью в себе, а правильно использованным инструментом) Лено изучает постепенные изменения в структуре газетного дела, подчиненности различным ведомствам (вплоть до полного захвата контроля ЦК), реорганизации и то, как это выплескивалось за пределы газет: движение рабкоров, массовый журнализм, рождение соцреализма, мобильные бригады.
Несмотря на эти вроде как специфические вопросы, читается все это с большим интересом и без каких-либо затруднений. Автор умело рисет картину, где проблемы страны, переход между экономическими формациями, сдвиги в обществе вынуждали правящий режим экспериментировать с важным инструментом влияния в попытках получить нужный результат, шарахаясь от субсидий к хозрасчету и режиму экономии, от бесплатной раздачи газет к коллективным подпискам, от газет для узких слоев населения к изданиям массовым, от осуждения врагов к восхвалению героев. Инструментом пресса была многофункциональным и использовалась как для массовой мобилизации, так и для получения информации о настроении населения, как для канализирования недовольства народа партийными привилегиями (именно письма в газеты показали готовность людей к жестким репрессиям по отношению к троцкистам, вредителям и кулакам), так и для борьбы аппарата ЦК с различными уклонами и оппозициями.
Лено указывает, что поскольку советским газетам не надо было бороться за выживание - они существовали не за счет подписки, а благодаря государственным грантам и дешевым кредитам, - очень быстро они начинали накручивать "пустой" тираж (пересылая больше номеров, чем было заказано), так как чем больше тираж, тем больше грантов. Однако это в итоге приводило к дефициту бумаги в стране, руководство партии и государства вводило режим экономии, срезало финансирование, закрывало часть изданий, меняло редакции и вводило газетное рационирование. Потом это повторялось снова, циклично. Только за период двадцатых годов, по мнению Лено, такой цикл повторился трижды.
Автор рассказывает и о трудностях, с которыми сталкивались советские газеты - недоверие интеллигенции, ставшей властью, к репортерам, оторванность загруженных партийной работой редакторов от остальных журналистов, страх перед малейшими проявлениями желтизны и бульварщины, делавший газеты просто нечитаемыми, сужение читательской базы из-за талонов на подписку, что привело к формированию иерархии потребления информации.
Переход к написанию писем трудящихся и использование фейковых бригад наряду с необходимостью перестроить работу агитпропа и осадить воинствующих журналистов, слишком увлекшихся огнем по штабам, привели к созданию гиперреальности и оформлению соцреализма. Автор не забывает о борьбе между различными группами литераторов и популярности у советской публики романов о путешественниках, летчиках и исследователях, но полагает, что именно массовый журнализм и эксперименты в подаче газетного материала были основными в создании соцреализма как жанра.
Как и многие другие историки-русисты в последнее время - Кларк, Коткин, Петроун - автор выражает сомнение в реальности тимашевского Великого отступления, полагая, что процессы, происходившие в тридцатые годы, слишком комплексные, чтобы им можно было подогнать под такое обобщение; часть из них является возвращением к практикам Гражданской войны, часть - вполне логичное продолжение явлений двадцатых годов.
Вообще книга очень многообъемлющая и даже простым перечислением того, о чем рассказывает автор, можно составить небольшую брошюру. Лено рассматривает множество различных тесно переплетенных явлений в истории страны, партии, общества, прессы - от вытеснения их редакций старых большевиков апологетами массового журнализма, что способствовало культурной революции и разгрому правой оппозиции до масштабной реорганизации прессы 1929-31 годов с многочисленными слияниями и закрытиями.
Автор так вкусно описывает межфракционную борьбу и чистки в редколлегиях, как будто Карточный домик снимали в декорациях сериала Офис. Вся эта грандиозная драка бульдогов под ковром, когда в войне всех против всех участвовали газеты, комсомол, секретариат ЦК, профсоюзы, предъявлена читателю весьма наглядно и смачно, но без "нездоровой погони за сенсациями". Даже производственный роман Гладкова Цемент он умудрился подать так, что срочно захотелось его прочитать. Вообще слог у Лено гладкий, книга течет как ручей горный, без запинки и порогов; статистику использует мерно, не злоупотребляет, таблиц, обычно мне сильно мешающих, нет почти вообще. Использование же им терминов "политкорректность" и "формирование общественного мнения" делает книгу весьма актуальной в каком-то жутковатом смысле.
В предисловии и заключении Лено с удовольствием играется с различными школами анализа и теориями специалистов по сталинской эпохе, там тоже много вкусного и интересного, но автор, слава богу, особо не углубляется - ну так, пометил территорию.

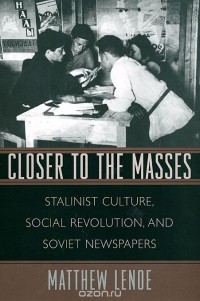
Комментарии
Не мог бы ты авторскую мысль раскрыть? Я несколько не уловил связи между приключенческими романами, борьбой группировок писателей, массовыми газетами и соцреализмом (который, вроде бы, о правильном отражении действительности в духе идейной переделки, вот тот же Добренко утверждал, что весь советский эксперимент - это один соцреализм и есть).
Цемент давно хочу сам прочитать, Кларк его тоже изрядно рекламировала, если я ничего не путаю.
Я так и думал, что написал невнятно. Автор полагает, что несмотря на то, что некоторые элементы соцреализма проявились до внедрения массового журнализма (тот же Цемент появился раньше), именно газетные практики мобилизации и выдачи желаемого за действительное привели к оформлению самих принципов этого жанра; хотя он не скидывает со счетов и то, что важными факторами были и возня вокруг РАППа и пролетарской литературы, и любовь советского читателя к романам про летчиков и полярников, проявившаяся еще во времена НЭПа. Сумбурно, но как-то так.
Спасибо, понял. Как по мне, так утверждение довольно странное, ибо книги писались вовсе не газетным языком (разве что автор о всяких горьковских проектах про Беломорканал?), а соцреализм вроде бы не про полярников и летчиков, а про колхозников и рабочих. Но, наверное, надо читать книгу )
Имеется в виду основные принципы, на которых базируется соцреализм. Я на эту тему спорить не буду, плохо подкован, просто упомянул один из основных тезисов книги.