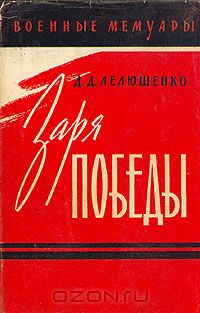Больше рецензий
17 марта 2019 г. 15:50
110
4 «Я был счастлив увидеть некоторые из подвигов русских армий, подвигов поистине великолепных».
Рецензия
Дмитрий Данилович Лелюшенко
Еще весной 1941 года, незадолго до начала ВОВ ему поручили формирование 21-го механизированного корпуса. В состав его входили две танковые и одна мотострелковая дивизии. По штату корпусу полагалось свыше четырехсот боевых машин, но имелось только девяносто восемь танков устаревших марок БТ-7 и Т-26.
«— Когда прибудут к нам танки? Ведь чувствуем, немцы готовятся…
— Не волнуйтесь, — сказал генерал-лейтенант Яков Николаевич Федоренко. — По плану ваш корпус должен быть укомплектован полностью в тысяча девятьсот сорок втором году.
— А если война?
— У Красной Армии хватит сил и без вашего корпуса.»
Слова эти принадлежали тому самому Федоренко, который впоследствии станет маршалом бронетанковых войск и о чьей безвременной смерти после войны ходит множество слухов и спекуляций. Вооружение для корпуса находили буквально по крупицам. Иногда приходилось использовать и военный «блат». Так, 95 противотанковых орудий выбить из резерва главкома Лелюшенко помог офицер Генерального штаба Анатолий Алексеевич Грызлов. «Учитывая обстановку, он самостоятельно принял решение о передаче орудий.» В артиллерийские расчеты, по предложению Георгия Ивановича Хетагурова, который являлся начальником артиллерии корпуса, было решено назначить экипажи танков, не имеющих машин. Относительно комплектования было решено в каждой танковой дивизии иметь по два танковых полка; в них — по одному танковому батальону двух-ротного состава (в каждой роте — по три взвода, а во взводах — по три танка) и плюс девять командирских машин. Таким образом, в каждой танковой дивизии предполагалось иметь по сорок пять танков. Кроме того, в танковые полки включалось по мотострелковому батальону и артиллерийскому противотанковому дивизиону.
KNOW-HOW от Лелюшенко: во время боя невыгодно тратить время на шифрование. «Мы, танкисты, изобрели свой способ. Указание, переданное А. М. Горяинову, выглядело так: ГРАЧ (Горяинов), ВЕТЕР (ускорить движение), ГРОМ (ударить), ДАР (Даугавпилс), ЛОМ (Лелюшенко). Всего пять слов. Их было легко запомнить и передать за несколько секунд. А в динамичном танковом бою дорога каждая минута. Противник, естественно, мог расшифровать наш текст через несколько часов, но к тому времени бой, вероятно, уже закончится.»
Активность и инициативность Дмитрия Даниловича не остается без внимания со стороны командования и вскоре его назначают заместителем начальника Главного автобронетанкового управления Красной Армии и поручают в сжатые сроки сформировать двадцать две танковые бригады. «Материальная часть будет поступать с заводов страны и из ремонтных мастерских. План формирования в Бронетанковом управлении есть. По мере готовности докладывайте нам через товарища Федоренко или непосредственно в Ставку». Все свои идеи и предложения Лелюшенко передает начальнику Главного артиллерийского управления Яковлеву. Он также проводит совещания с Жозефом Яковлевичем Котиным. В конце сентября 1941 года проходит Московская конференция трех держав — СССР, США и Англии по вопросам взаимных военных поставок. Н. Д. Яковлев и Лелюшенко были включены в состав советской делегации в качестве военных экспертов и вели переговоры с английскими и американскими коллегами о поставках Советскому Союзу танков и артиллерийского вооружения. Это было первое соглашение трех держав о реальном сотрудничестве. Но формулировки протокола были весьма расплывчатыми. Впоследствии Гарриман писал: «Я разъяснил Сталину, что поставка материалов, перечисленных в протоколе, не была твердым обязательством, но что мы приложим все усилия, чтобы поставить их».
«США и Англия обязались с 1 октября 1941 года по 30 июня 1942года ежемесячно поставлять нам четыреста самолетов, пятьсот танков, двести противотанковых ружей, две тысячи тонн алюминия, тысячу тонн броневых листов для танков, семь тысяч тонн свинца, полторы тысячи тонн олова, триста тонн молибдена, тысячу двести пятьдесят тонн толуола». Бюрократическая машина тех лет была настолько медленной, что, когда Лелюшенко, словно типичному кризис-менеджеру, приказали сдавать дела по управлению и принимать Первый Особый гвардейский стрелковый корпус для того, чтобы остановить танковую группировку Гудериана, прорвавшую Брянский фронт и наступающую на Орел, то пока корпус сформировали – Гудериан был уже у Орла.

немецкие танки на марше, операция "Тайфун", осень 1941 года.
Поражает решение командования, которое, ввиду новых обстоятельств, не придумало ничего лучше, чем: «Сформировать корпус нужно не за пять дней, а за день — два. Вам с генералом Жигаревым надо немедленно вылетать в Орел и на месте во всем разобраться.» Лелюшенко отказался. «— В Орел сейчас лететь нет смысла. Ни наземных, ни воздушных наших войск там нет. Авиация противника, вероятно, уже господствует над городом. Прошу подчинить мне 36-й мотоциклетный полк, находящийся в вашем Резерве, и Тульское артиллерийское училище. С ними двинусь навстречу Гудериану. По пути подберу отступающих и вышедших из окружения. Этими частями организую оборону до подхода главных сил корпуса. Штаб корпуса расположу в Мценске.» Не успел Дмитрий Данилович выбить немцев из Мценска, как он был назначен командующим 5-й армии. Армия должна была занять оборону в районе Можайска. Там создавался специальный Можайский рубеж обороны.

Размышления Д.Д. Лелюшенко о танках:
В танках противник имел лишь количественное преимущество. Советский Т-34 оставался с начала и до конца войны самой совершенной машиной. Некоторые наши механизированные корпуса еще до начала войны были почти полностью укомплектованы танками КВ и Т-34. Но использовались они во многих случаях безграмотно и непродуманно. К тому же излишние переброски приводили к быстрому израсходованию горючего и моторесурсов. В результате наши первоклассные боевые машины нередко доставались врагу, так как не были в состоянии двигаться. В смысле организации войск враг тоже опередил нас: он свел свои танковые дивизии в четыре группы (армии); у нас же высшим соединением был только механизированный корпус. Немало бед причинило промедление с перевооружением и с переходом на новые штаты: многие стрелковые и кавалерийские дивизии сдали лошадей и прежнее вооружение, а новую технику не получили, ее не хватало.
По поручению Шапошникова, Лелюшенко пришлось в Горьком осматривать английские танки «валентайн» и «Матильда».
«Это были машины невысокого класса. Они во многом уступали по боевым качествам не только нашим, но и немецким танкам. Однако приходилось их брать. Наша танковая промышленность не могла еще удовлетворить запросы фронта.»
Очередным назначением Лелюшенко становится «командировка» в 30-ю армию, вместо генерала Хоменко. Эта армия испытала на себе огромную тяжесть удара гитлеровских сил в ноябре 1941 года и отошла. Отход войск 30-й армии и отсутствие в распоряжении командарма резервов ставили под угрозу левое крыло Калининского фронта. «Штабной офицер провел меня к командующему армией генерал-майору Василию Афанасьевичу Хоменко. В его землянке находился и член Военного совета армии бригадный комиссар Николай Васильевич Абрамов. Поздоровались. Хоменко спрашивает меня, зачем прибыл. Показываю предписание из Ставки: принять 30-ю армию, а Хоменко сдать ее и отправиться в распоряжение Верховного Главнокомандующего. Василий Афанасьевич помрачнел. Вины за собой он не чувствовал. Что он мог сделать силами ослабленной армии против трехсот наступающих неприятельских танков!»
«К сожалению, в то тяжелое время военных неудач имели место не только подобные смещения, но и более тяжелые наказания. В этом, между прочим, особое рвение проявлял Л. 3. Мехлис.»
С 21 ноября начштаба у Лелюшенко становится Хетагуров. С потерей Клина между 30-й и 16-й армиями образовался восьмикилометровый разрыв. Закрыть его было нечем. Людей не хватает катастрофически. Но Жуков твердит: «У фронта сейчас резервов нет. Изыщите у себя. Стоять насмерть.»
Пришлось «почистить» дивизионные и армейские тылы. Из личного состава хлебопекарен, складов, подразделений охраны удалось набрать восемь взводов по двадцати человек. Придали им по одному орудию, по сотне противотанковых мин. Сражались боевые части, штабы, тылы, даже госпитали легкораненых. В это тяжелое время, генерал-«резерв» Жуков все-таки оказывает помощь: дает противотанковый батальон, имевший сто двадцать противотанковых ружей и артиллерийскую батарею.
Справка: только с 16 ноября по 5 декабря 1941 года фашисты потеряли под Москвой пятьдесят пять тысяч убитыми, свыше ста тысяч ранеными; было подбито и сожжено семьсот семьдесят семь танков, уничтожено двести девяносто семь орудий и минометов.
О тактике боя:
В бою, особенно ночном, бойцу важно чувствовать плечо соседа. Это подсказывало, что наступать надо цепью. А такой тактике, начиная с тридцатых годов, у нас не учили ни тех, кто уходил в запас, ни тех, кто оставался в кадрах. Непонятно было, почему выбросили из уставов, например, боевой порядок «цепью» для взводов, рот, батальонов, позволявший командиру видеть свое подразделение в наступлении, а бойцам — дружнее идти в атаку. «Цепь» заменили боевыми порядками «стайкой», «змейкой», «клином», по существу, изолированными, разрозненными группками. Авторы наставлений объясняли нам, что при таком построении меньше будет поражений от огня противника. Теоретически все вроде бы правильно... Осудили тогда некоторые теоретики и сплошные траншеи, окопы, ходы сообщения. Вместо них ввели индивидуальные «ячейки», разбросанные в шахматном порядке и оторванные друг от друга. Аргументировали это новшество так: наш боец стал сознательным, он будет стойко сражаться в индивидуальном окопе, и потерь понесем меньше. На практике же «ячейки» не позволяли командиру отделения, взвода, роты наблюдать за действиями своих подчиненных, а стало быть, и надежно управлять подразделением в обороне и при переходе в атаку. Немало потерь несли мы от этих нововведений.
Лелюшенко пришлось ломать этот порядок и заново переучивать свою армию, в процессе подготовки к контрнаступлению под Москвой.
Know-how наступления, или: как сделать так, чтобы враг не догадался:
«Пришли к единодушному выводу, что каждая дивизия должна наступать днем двумя стрелковыми полками при поддержке одного артиллерийского, а ночью — одним стрелковым и одним артиллерийским. В этих условиях противник не сможет определить, какие силы наступают ночью в полосе его обороны, а значит, будет вынужден круглые сутки держать в напряжении все свои войска.»
После разгрома немцев под Клином, министр иностранных дел Великобритании А. Иден захотел посмотреть на результаты боев. Ему устроили экскурсию. «В конце декабря мы прочитали в «Правде» заявление А. Идена, сделанное по возвращении в Лондон. Делясь впечатлениями о поездке в Клин, он сказал: «Я был счастлив увидеть некоторые из подвигов русских армий, подвигов поистине великолепных». Очень жаль, что не пришлось Идену увидеть подвигов русских армий на британской территории. Быть может, счастье его стало бы беспредельным…