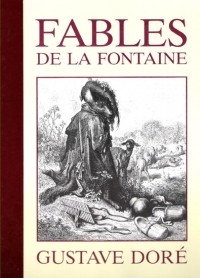Больше рецензий
4 марта 2019 г. 02:14
171
С жанром басни как-то получается, что обычно в национальной литературе возникает гениальный баснописец, до и после которого другие писатели и поэты, даже если они и писали басни, с этим гением несравнимы. Поэтому мы говорим о таких вершинах басни как Эзоп у античных греков, Федр — у античных римлян, Лафонтен — во французской литературе, Крылов в русской литературе, Глибов — в украинской.
Сюжеты басен переходят от одного автора к другому, и их басни выглядят то как более-менее точный перевод предшественника, то как вольная интерпретация предыдущего текста. Можно предположить, что и Федр брал басни из каких-то готовых источников. Может, один из них — суфийские притчи. И хотя все наши школьно-университетские учебники говорят о басне как о дидактическом жанре, в основе которого находится прием аллегории, когда два плана — образный и морально-дидактический прозрачны и один четко соответствует другому, мне кажется, что это не совсем так. Когда суфии хотят глубже понять смысл притчи, они медитируют по поводу ее содержания, и в результате открывается множественность вариантов ее понимания, разной глубины и значимости. Если генетические корни связывают басню с суфийскими притчами, попробуйте подумать о смысле басни — и вам откроется, что дидактика басни совсем не та, о которой говорят учебники, она скорее о духовном развитии человека, который прочитал басню и задумался о ней, а совсем не о сатирическом бичевании пороков общества. Духовное просветление отличается от общественной сатиры.
Басни Лафонтена гениальны в своем языке, в обработке сюжетов, в тех выводах, к которым они приходят. Поэтому читаю на французском, смотрю, что есть у других, у Крылова. Первая в первой книге басен Лафонтена — La Cigale et la Fourmi. У Крылова — "Стрекоза и муравей". Лафонтен начинает свою книгу басен с размышления: что важнее — трудиться каждый день с утра до вечера, чтобы иметь кусок хлеба, или петь, пока поется, дарить приятное людям, не думая о завтрашнем дне? Как-то незаметны здесь сатира и дидактика: скорее перед нами те герои, которых чуть позже назовут филистером и художником. Два разных типа жизни. И будет ли муравью легче трудиться следующим летом, когда он не услышит песен умершей от голода стрекозы? А почему муравей не дает стрекозе даже кусочка хлеба, а отправляет ее подальше: "так пойди же попляши". Разве благочестивая трудолюбивая жизнь превращает муравья в жесткого, бесчувственного, да ещё и грубого персонажа? Вот так и дидактика…
Ещё из интересного. У Лафонтена, если перевести точно, стрекозы нет. У него — "Цикада и муравей". Кто слышал цикаду, тот сразу поймет, почему она лето целое пропела. И сразу чувствуется, откуда к нам пришла басня — из жаркого Средиземноморья. У Крылова эта басня обрусела: ну откуда тут цикады, хотя и песни стрекозы тоже вряд ли кто когда слышал. Но стрекоза в русской басне прижилась. Еще у Лафонтена отношения между двумя героями совсем не кумовские, как у Крылова. Там всё строже: цикада пришла просить в долг, и даже говорит о теле кредита и о процентах! Но жестокосердый муравей всё равно отказывает — он не в настроении давать в долг. Точнее, она, потому что по французски и цикада (la Cigale), и муравей (la Fourmi) — оба/обе женского рода. Не знаю, вкладывал ли Крылов гендерный аспект в отношения стрекозы и муравья, но он точно может возникнуть в наше время. А герои у Лафонтена — женского рода, и никакой гендерной динамики в его басне нет!