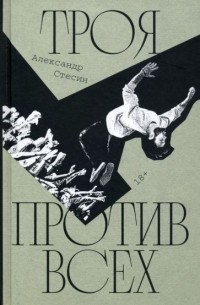Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
Во мне – два человека, и оба держатся на расстоянии друг от друга, словно несросшиеся сиамские близнецы.
Кто приходит к чужим, тот отвечает, а не поет.
Глава 1
Это помню отчетливо: как Рэйчел, соседка по общежитию, учившаяся на факультете танца (я и не знал, что есть такой факультет), сообщила, что знакома с девушкой, которая могла бы стать моей «второй половинкой».
– Ты себе не представляешь, до чего вы похожи. Просто близнецы какие-то. По-моему, тебе надо срочно завести с ней роман.
– Честно говоря, мне не хотелось бы заводить роман со своим близнецом.
– Да нет, я не говорю, что вы внешне похожи. Внешность у нее вообще супер. Ну, просто у вас много общего. Короче, вы друг другу понравитесь. Ну что, будешь знакомиться?
– Куда ж я денусь?
Я записал телефон на желтый листок «post-it», который затем спрятал в бумажник, прижав клейким краем к банковской карточке (самый верный способ не потерять). Позвонил в тот же вечер. «Вторую половинку» звали Вероникой. Она ждала моего звонка, слышала обо мне от Рэйчел: да-да, близнецы и все такое. Наверно, потому, что оба из России? Рэйчел – добрая душа, но, как говорят американцы, «не самая яркая лампочка в коридоре». Как это будет по-русски? Есть такое выражение? «Не семи пядей во лбу», – подсказал я… Или не было в нашем разговоре такого момента? По правде сказать, я не помню даже, на каком языке мы тогда говорили. Скорее всего, по-английски. А имя? Как я ей представился? С именем у меня сложности с подросткового возраста – с того момента, как мы с родителями приехали в Америку. В иммиграционных документах написали Vadim, не сообразив, что по-английски это будет читаться как «вейдэм». Правило открытого слога. В школе меня тут же наградили кличкой Дарт Вейдэм. Я очень старался не обидеться, подыгрывал: «Люк, я твой отец». Но в конце концов не выдержал и поменял орфографию на Vadeem. В результате мое имя стали произносить почти правильно, но заочно принимали за пакистанца. Я предпринял еще одну попытку: сократил до Vad. Но мне объяснили, что это вообще не имя. Тогда я взял себе американское имя Damian. В обратном переводе на русский я получался теперь Демьяном; те, кто знал меня не очень близко, так и называли. В конце концов, где Дима, там и Дема. Близкие друзья называли Димой, неблизкие – Демой, и только родители – Вадиком. Кажется, я выдал ей все это в первые же пять минут. Хороший зачин, ничего не скажешь. Знакомство а-ля Вуди Аллен (вот уж кого никогда не любил!).
Вероника оказалась Вероникой, как по-русски, так и по-английски. Помолчав, добавила, что дома ее называют Викой. Она, как и я, родом из Saint Petersburg. Как и я, приехала в Америку ребенком. И так же, как я, мечтает стать адвокатом. Кроме того, она пишет стихи. Вернее, писала. Она написала одно стихотворение. Ей было семь лет, ее родители разводились, и ей приходилось все время мотаться с одного конца города на другой. Стихи пришли ниоткуда, как будто их ей надиктовали. Она до сих пор помнит первое четверостишие: «Висит картина на стене, / на ней – растопленные лица / танцуют с тенью в полусне / в надежде с комнатою слиться…» Кажется, неплохо, да? Для семилетнего ребенка – просто здорово.
Мы провисели на телефоне почти три часа. Прощаясь, вспомнили про Рэйчел («лампочка-то оказалась ярче, чем мы думали…») и договорились встретиться на следующий вечер у входа в административное здание, торжественно именуемое Палатой общин. Располагалось оно в самом центре кампуса, в окружении зданий поменьше – кофеен и едален для студентов. Все дорожки, ведущие к лекториям и общежитиям, лучами расходились от Палаты или, наоборот, вели к ней, и потому в этой точке, у вечно закрытых дверей ампирного здания, чье предназначение было никому не ведомо и не интересно, по традиции назначались все свидания. Она была вроде того фонтана в ГУМе. Ни фонтана, ни ГУМа, который родители показывали мне во время скомканной поездки в Москву, я, конечно, не помню. Но фраза «в ГУМе у фонтана» застряла в памяти среди беспорядочных ошметков советского детства.
А вот это помню: промозглый день, серое небо с расплывчатой пробелью тумана, который поднимается от искусственного озерца на окраине кампуса; первокурсники, зябко и неприветливо кучкующиеся у входа в Палату. В одной кучке – рейверы, в другой – геймеры, в третьей – готы; у всех своя форма одежды. Точно фишки, рассортированные по цвету и расставленные по разным углам поля перед началом настольной игры. Сейчас кто-нибудь бросит кости, сделает первый ход и – пошло-поехало. Все цвета смешаются, карточки из колоды будут неровно ложиться на свободные квадраты, а фишки – одна за другой выбывать из игры.
Вероника не пришла. Я пробовал дозвониться, оставил несколько сообщений, одно наигранней и нелепей другого. Через неделю, превозмогая стыд, невзначай поинтересовался у Рэйчел: «Как там, кстати, поживает мой астральный близнец Вероника? Не звонит, не пишет… Ты, случайно, не знаешь, куда она пропала?» Рэйчел ответила с неожиданной прохладцей: «Просто ты показался ей слишком напористым, вот и все».
Просыпаясь в поту, я думаю, что соскучился по нормальному одеялу. Вот чего здесь нет. Уже полтора года я укрываюсь чем-то вроде вафельного полотенца, какие выдавали во времена моего детства в поездах дальнего следования. Небось советские друзья и прислали – еще в ту пору, когда Ангола шла путем строителей коммунизма. Советский big brother облагодетельствовал их вафельными полотенцами, а местные соткали из них эти лоскутные покрывала. В здешнем климате только ими и можно укрываться, но как избавиться от тоски по ватному одеялу, тому самому, которое мать дала мне с собой в колледж? Я спал под ним все четыре года, проведенные в общежитии, и потом, когда начал семейную жизнь, купил себе точно такое же, но не захотел делиться им с женой, да и она не захотела – спала под пледом. «Под пледом невозможно спать, под ним можно только дремать», – ворчал я и, завернувшись в свой ватный кокон, отворачивался к стене. Теперь это далеко – и плед, и кокон. Вафельная же простынка не предназначена для личного пользования, она предназначена для безличного, и подтверждением тому одно интересное наблюдение: эта материя не удерживает запаха пота, хотя потею я будь здоров, особенно с тех пор, как у меня сломался кондиционер. Кондиционер, надо сказать, был почти новый, гарантия на починку еще не истекла. Но здесь, в Луанде, эта гарантия – пустой звук. О том, что тебе что-то там починят, да еще в разумные сроки, и думать нечего. Привыкай спать как местные, маринуясь в собственном соку. А покрывало, даже если его не стирать целый месяц, продолжает пахнуть чем-то стерильно-больничным, карболкой, что ли: не признает своего хозяина, не впитывает его пота. И мое пребывание здесь – в этой постели, в этом городе – остается бесследным. Но я не опускаюсь до такой метафоры не потому, что отказываюсь видеть в вафельном покрывале символ моей нынешней жизни, а потому, что уж слишком на поверхности он лежит, этот символ. Он мог бы сгодиться для какого-нибудь романа Пепетелы. Я заставлял себя читать Пепетелу и прочих классиков ангольской литературы, когда только сюда приехал. Что-то там про партизан. В этих книгах в духе соцреализма, написанных под одну гребенку, речь шла словно бы о другой стране, не было ни вкуса, ни запаха, не было того, что я вижу вокруг.
Сам я никогда раньше не писал романов. Это – первая проба пера. Моя мать, в прошлом учительница русского и литературы, хотела воспитать литературного мальчика. В ее прежней, доэмигрантской картине мира начитанность была чуть ли не главной человеческой добродетелью. В эмиграции от той картины почти ничего не осталось – кроме желания, уже ни к чему не привязанного: чтобы сын сохранил русский язык. Чтобы вырос начитанным. Не бог весть какая мечта, но она сбылась, мама: я всегда любил читать. А теперь вот и писателем решил заделаться. Звучит гордо: пишу роман. Точкой отсчета послужил дневник, который я раньше вел от случая к случаю, а по прибытии в Африку стал вести регулярно. Причем пишу на языке, которым почти не пользуюсь изо дня в день. Говорю я в основном по-английски и по-португальски. А пишу по-русски. Мне нужна эта постоянная дистанция самоперевода. Подальше от себя, поближе к другому себе, которого нет.
Кажется, разрозненных историй, которые я собрал за то время, что здесь нахожусь, и впрямь могло бы хватить на целую книгу. «Перед вами рассказ русского американца, переехавшего в Анголу и вобравшего в себя непривычные реалии этой страны, ее невероятные истории. Это не просто очередная книга об Африке, а именно роман. Роман с Анголой». Путеводитель по местам, где никто, кроме меня, никогда не бывал. Это приятно – чувствовать себя первопроходцем. Писать с позиции эксперта. В повседневной жизни ты, экспат-новобранец, с трудом ориентирующийся в местных реалиях, ежеминутно чувствуешь уязвимость своего положения. Зато на бумаге говорящий обретает апломб всезнайки; твой гипотетический читатель знает еще меньше, чем ты, и это придает тебе сил. Лучший способ помочь слабому ученику – дать ему выступить в роли учителя.
Итак, первая проба пера. Почти первая. В юности я баловался стихами, текстами для песен, но с самого начала знал, что это не всерьез. Всегда метил в юристы, в старших классах был участником дискуссионного клуба, упражнялся там в красноречии, а в колледже ездил на Гарвардские дебатные турниры, даже призы получал. И стал кем хотел, и взмыл по карьерной лестнице – не в самые, конечно, эмпиреи, но до определенного уровня. И ушел от жены (если быть до конца честным, не я от нее, а она от меня); и, земную жизнь пройдя до половины, почти «вернулся в детство», как я привык говорить себе и другим, «эмигрировал по второму разу». Приняв предложение от британской инвестиционной компании, перебазировался в Луанду, столицу Анголы, город будущего на юго-западном побережье Африки. И если детство это, собранное наугад из отдельных кадров, из сувенирной рухляди, переполнившей барахолки всего постсоветского пространства, а здесь, в постсоветской Анголе, еще не отжившее и не отболевшее до конца, – если это детство не оправдывает моих ожиданий, то нечего пенять на одеяло, одеяло тут ни при чем.
По выходным я завтракаю на балконе, защищенном от мира металлической решеткой, несмотря на то что квартира находится на седьмом этаже. Неужели местные бандиты способны залезть так высоко? Или это исключительно для успокоения склонных к паранойе квартирантов-экспатов вроде меня? С высоты седьмого этажа мне видна вся улица, ее полупонятная жизнь. Я запихиваю в рот остатки вчерашнего ужина, запиваю чуть теплым кофе. В детстве у меня был плохой аппетит. Родителям то и дело приходилось напоминать мне, что кусок, который я мог часами держать за щекой, в конце концов надо разжевать и проглотить. «Жуй и глотай, Вадя, жуй и глотай!» Теперь я, взрослый дядя, у которого с аппетитом все в порядке, так же напоминаю себе любоваться этим видом с балкона. Видом, который вот уже полтора года служит профильным фото на моей странице в Фейсбуке. «Смотри и радуйся, Дэмиен Голднер, смотри и радуйся!» Говорят, десять лет назад здесь были сплошные трущобы, а сейчас – джентрификация почище нью-йоркской. Выселяют, сносят и строят новое, массивное. Из богатого ассортимента луандской архитектуры – старые панельные дома (ближайшие родственники нью-йоркских проджектов), развалюхи из кирпича и листового железа в муссеках, аляповатая китайщина небоскребов или последние из колониальных построек с красными черепичными крышами, кое-где еще облицованные традиционной глазурованной плиткой «азулежу», – я предпочитаю пережитки португальского колониализма.
Белые ехали сюда, как и в Южную Африку, с тем чтобы поселиться на веки вечные. Только здесь, в отличие от ЮАР, не было длительного противостояния между разными мастями колонизаторов, никаких англо-бурских войн. С голландцами, заключившими союз с правительницей Ндонго и Матамбы, расправились еще в XVII веке. Остались одни португальцы. Вероятно, по части колониального насилия они не уступали другим европейцам, но отличались от остальных хотя бы тем, что перемешались с местным населением куда более основательно, чем англосаксы – с зулусами или французы – с баконго. Как утверждает один из моих здешних знакомых, «креольские гены – самые живучие». Охотно верю. Я и сам такой: мама – русская, папа – еврей. Полукровка – и в Африке полукровка. Креольские гены. Так победим.
В Луанде все говорят по-португальски. Кроме китайцев. После ухода португальских властей тут ненадолго обосновались кубинцы и русские, а в начале 2000‐х пришли китайцы. Колонизаторы-строители. Пришельцы из Китая ни с кем мешаться не собираются, хоть и не брезгуют столовками и общественным транспортом, разъезжают по городу вместе с ангольцами в бело-голубых кандонгейруш (среднего американца в такой транспорт калачом не заманишь). Хотя нет, не только португальский да китайский; кое-где слышится и английская речь. В первом десятилетии нового века рост цен на сырьевые товары согнал сюда толпы англоязычных экспатов. Новый Клондайк, нефтедобыча по два миллиона баррелей в день. Сулили неограниченные возможности, говорили, что Луанда – следующая столица мира. Вот и я оказался частью толпы, хотя к моему прибытию пик уже прошел и запоздалым старателям достались, в сущности, жалкие остатки. Но я и не рассчитывал стать богачом в одночасье, не за этим сюда ехал или, скажем так, не только за этим.
Могу похвастаться: за первые полгода здесь я довольно сносно заговорил по-португальски (помог испанский, который я учил в школе) и хотя бы этим выгодно выделяюсь на фоне бывших соотечественников, как русских, так и американских. Что же касается местных наречий, кимбунду и умбунду, мне потребовалось некоторое время, чтобы понять, что это – разные языки. На кимбунду говорят северные мбунду, живущие в окрестностях Луанды, а на умбунду – те, кто живет на юге, в Уамбо и Бенгеле. Старшие товарищи объяснили мне, что в эти тонкости можно и не вникать. В Луанде африканские языки не в ходу, разве что среди стариков или тех, кто только-только из деревни, но ни с теми ни с другими у экспата, работающего на инвестиционную компанию, нет повода общаться. «Все очень просто: кимбунду – это побережье, МПЛА, нефть; умбунду – внутренние районы, УНИТА, золото и алмазы. Вот и все, что тебе нужно знать».
Африканские языки слышны урывками в уличной какофонии. Если прислушаться, в ней можно различить и умбунду, и кимбунду, и киконго, и чокве со всеми их бесчисленными диалектами, а заодно – французский, арабский, иврит. Мне нравится это вавилонское многоязычие: почти как в Нью-Йорке или в Чикаго. В детстве я знал доморощенного лингвиста, помешанного на идее универсального языка. Он был отцом одного из моих чикагских одноклассников. Контуженый ветеран Вьетнама, он посвятил полжизни своей не слишком оригинальной идее. Составлял словари, разрабатывал грамматику. Когда ему указывали, что такой проект уже пытались осуществить создатели эсперанто, он мотал головой: «Из эсперанто ничего не получилось, потому что его придумали для взрослых. А мой язык смогут выучить дети, он будет понятен для всех. Это долгосрочный проект, одной жизни не хватит. Но я закладываю фундамент. Потом мое дело продолжат. Гарантирую: через тысячу или даже через пятьсот лет все люди станут говорить на этом языке. И на свете не будет войны». Такого персонажа, чокнутого ветерана-визионера, легко можно представить и здесь, в послевоенной Луанде. Какой из тридцати девяти национальных языков Анголы он взял бы за основу своего универсального языка? Смесь киконго с французским? Или, может быть, смесь умбунду с мандаринским? Все это можно услышать, если прислушиваться и уметь отличать один язык банту от другого. Но у экспата, с грехом пополам вписавшегося в здешнюю жизнь, нет на это времени. Кто-то из сослуживцев шутки ради подарил мне кимбунду-португальский словарь. Я положил его к другим сувенирам – африканским маскам, статуэткам, обрезам узорчатой ткани. Когда-нибудь, когда я вернусь домой, мне понадобятся все эти собирающие пыль безделушки. Безотказный способ взбудоражить память и фантазию новоиспеченного романиста. Артефакты другой, непредставимой жизни. Возможно, тогда я даже открою этот толстенный словарь и выучу несколько слов на кимбунду.
С Вероникой я познакомился через год после той провальной попытки назначить свидание. Познакомился случайно, не подозревая, что она – это она, а главное, так и не выдав ей, что я – это я. Обычный пятничный загул в колледжском баре. Она была с подругой, я – один и в сильном подпитии. Она оказалась крашеной блондинкой, вполне миловидной. Правильная фигура, правильные черты лица. Правильное – это усредненное, это не комплимент. Глаза большие, темные. Взгляд казался то насмешливым, то слегка безумным. Странный взгляд. Тем интересней. Действовать надо наверняка, и чем проще заход, тем оно лучше. Для таких случаев у меня был припасен alias: я представлялся Бобом Райли (так звали одного качка у нас в школе).
– Привет, я – Боб. Потанцуем?
– Боб? А фамилия?
– А что, разве для танца требуется фамилия?
– Требуется, требуется.
– Ну, Райли.
– Ну, привет, Боб Райли. Я – Вероника.
– А фамилия?
– Просто Вероника. А это моя подруга Дженни. Ну, так что мы будем пить?
К тому моменту, как я сообразил, кто передо мной, переигрывать было уже поздно, и я провел остаток вечера в образе Боба Райли. Вышло глупо: на прощание Вероника сама попросила у меня телефон, и мне ничего не оставалось, кроме как дать ей выдуманный номер. Настоящий мой номер она уже знала и знала, кому он принадлежит. А если и выбросила, вычеркнула из памяти и записной книжки, то – все равно не выкрутиться. Можно себе представить, как я буду подходить к телефону («Боб слушает»), отбиваясь от соседей, Криса с Джошем. Как они будут назло выхватывать трубку: «Он – не Боб Райли, он – Дарт Вейдэм!» Нет, нет, не нужно нам такого счастья. Вот вам, мадемуазель Вероника, липовый телефон Боба Райли. Или, как поется в песне, «Jenny, don’t change your number: 8-6-7-5-3-0-9…».
В колледже у меня было два круга знакомых, русский и американский. Они практически не пересекались между собой, и если американский круг был в целом ничем не примечателен («Хорошие ребята, не знаю, нормальные» – так описывал я своих друзей родителям), то русский круг, о котором родителям не сообщалось, никак нельзя было назвать нормальным. По правде говоря, я и сам не вполне понимал, как меня занесло в эту компашку. Одни кликухи чего стоят: Кулак, Профессор, Кот, Ву-танг, Жека-со-шрамом, Жека Forget-about-it… Я даже не был до конца уверен, студенты ли они или только приходят на кампус потусоваться. «Демчик, пойдем курнем!» «Демчик, мы с Кулаком сегодня по клубам. Ты с нами или как всегда?» По крайней мере, про Костю Кулака я точно знал, что тот учится, и не где-нибудь, а на юридическом, то есть там, куда я и сам стремился попасть. Есть такие люди: и кокс по клубным туалетам нюхает, и здоровенного вышибалу отметелить может (отсюда – кликуха), и в престижной law school учится на отлично, готовится стать успешным юристом. Я тоже хотел быть таким. Кулака побаивался и безотчетно лебезил перед ним, отчего становился сам себе противен. Вообще, чувствовал себя не слишком уютно среди этой шпаны, хотя по четвергам исправно ходил с ними в злачный клуб «Микки-рекс». В кругу однокашников-американцев, где я был не Демчиком, а Дэмиеном, мне было комфортней. При этом я не без гордости расписывал американцам эскапады моих crazy Russian friends, а иногда попросту врал, записывая выходки того же Кости на свой счет.
Но ведь случалось и со мной всякое… Один пуэрто-риканский эпизод чего стоит! На какой-то тусовке приобнял незнакомую девушку, она ко мне прильнула, и тут выскочил ее бойфренд, бешеный пуэрториканец. Все удары – в голову и открытой ладонью, «по-бруклински». Я упал, ударился головой о каменную плиту. Пуэрториканец не отступился, а наоборот – бил ногами по голове, но этого я, естественно, уже не помню. Узнал потом от Криса с Джошем, это они меня, окровавленного, дотащили до приемного покоя. Оказалось, сильное сотрясение мозга. Врач с длинным индийским именем на нагрудном кармане белого халата (в кармане – целый набор ручек, на рукаве – кофейное пятно) резюмировал: легко отделался. А через месяц справляли мой день рождения, заказали стол в армянском ресторане. Владелец ресторана, Серега, бывший моряк, клеился к каждой юбке; когда же ему напоминали, что у него есть жена, потешно удивлялся: «Жена who?» И вот в самом разгаре шабаша подходит ко мне Кулак:
– Слышь, Демчик, нам пора. Кот уже тачку подогнал.
– А куда мы едем? – спрашиваю я с пьяным благодушием.
– Воевать едем. В Латинскую Америку. Тебе табло начистили? Ну, мы с ребятами, понятно, огорчены таким поворотом событий. Надо поучить Пуэрто-Рико.
– Так я ж понятия не имею, что это за пуэрториканец был и где его искать!
– А, это мы уже без тебя выяснили. И что за хер, знаем, и где живет. И даже то, что он сейчас дома. Небось красавицу свою шпилит. Поехали, короче. Считай, это наш коллективный подарок тебе на день рождения.
На следующее утро я никак не мог восстановить в памяти все детали. С тревогой подумал, что мне уже во второй раз отшибло память. Так или иначе, я не запомнил ни собственного избиения, ни ответной расправы. Несколько разрозненных и расплывчатых картин, не более того. Вот мы идем дворами, продираемся в потемках через какие-то заросли и, вынырнув, оказываемся на лужайке за двухэтажным домом. На веранде сидит невменяемый хиппи. Кулак говорит: «Это наш связной». Невменяемый хиппи впускает нас в дом. При этом он безостановочно хохочет, повторяя слово «вендетта». Кулак и Жека-со-шрамом идут в бой первыми. К тому моменту, как заплетающийся и шатающийся именинник их догоняет, бешеный пуэрториканец уже валяется на полу в гостиной. Тот ли это, по чьей милости я месяц назад угодил в больницу? Я не могу опознать моего обидчика. Никакой красавицы-подруги с ним нет. Но Кулак уверяет, что это он, тот самый, и хиппарь-наводчик между приступами хохота подтверждает слова вожака.
После этого случая я изменил свое отношение к Кулаку и компании. Друг познается в беде, и, если в беде, постигшей меня, истинными друзьями оказались не интеллигентные Джош и Крис, а мордоворотистые ребята с блатными кликухами, значит, так тому и быть. Теперь и я буду им настоящим другом, примкну к их компании уже не наполовину, как раньше, а на все сто. К счастью, решимости моей хватило ненадолго.
Вероника не принадлежала к «русскому кругу»; скорее всего, она даже не знала о его существовании. И все же это именно Рафаэль (кличка – Кот) снова свел нас вместе. Вернее, не сам Кот, а его приятель Кир (для американцев – Сайрус). Это произошло в клубе «Микки-рекс», куда мы все ходили, не пропуская ни одного «thirsty Thursday».
– Знакомьтесь, – сказал Кир, – это Вероника. Мы с ней дружим с двенадцати лет. С того момента, как меня привезли в Америку. Она – мой первый американский друг.
– А я – твой сосед, – перебил его Кот. – Ты иранец, а я из Узбекистана. У нас в общине говорят на фарси. Значит, мы с тобой кто? Правильно, соседи. Да, чуть не забыл, это мой друган Дэмиен. Мы по-русски его называем Дема или Демчик.
– Вот как? – Теперь во взгляде Вероники не читалось ничего, кроме насмешки. – А мне почему-то казалось, что его зовут Бобом Райли.
– Не Бобом Райли, а Бобом Марли! – жалкая попытка отшутиться.
– Не пизди! – возмутился Кот. – У Боба Марли были шикарные дреды, а у тебя просто жидовская шевелюра!
– Это правда, – с готовностью согласился я. Спасибо тебе, друг, ты и не знаешь, как выручил меня своими плоскими остротами. Еще минуту назад мне хотелось провалиться сквозь землю, но теперь ситуация, только что казавшаяся безвыходной, как-то неожиданно разрешилась сама собой.
Весь остаток учебного года мы гуляли такой вот странной компанией: Кир, Вероника и мы с Котом. Вероника стала «своим парнем»; теперь мы с ней общались запросто, по-приятельски. Ничего романтического в наших отношениях не было. Как не было, впрочем, и настоящей дружеской близости. Да и ни у кого из нас ее не было.