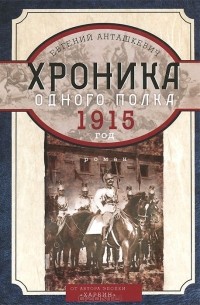Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
Январь
– Кавалерии не требуется снарядов! Коня снарядом не зарядишь, а если и зарядишь, так его надо развернуть к противнику… сами понимаете, каким местом!
– Согласны, граф, и выстрел получится смешным!..
– Особенно для противника!
– Поумирают со смеху, глядючи!..
Офицеры сдерживали улыбки.
– Однако, ваше сиятельство, снаряды для артиллерии недурно поддержали бы нас, кавалерию!
– Особенно ежели прежде атаки, да солидным залпом!
– Или по встречной атаке противника…
– Ладно, господа, «илиили» это всё пустое, на нет и суда нет, снаряды не наша забота. Все свободны, и так уже задерживаемся на целый час. Война войной, а обед…
Офицеры заулыбались.
– Надо поторопиться, господа, нам тоже негоже опаздывать к службе. Нижние чины?..
– Построены и ждут!
– Батюшка?
– Отец Илларион уже раздул кадило…
– Жалко, что ушли кремнёвые времена, сейчас бы поставить его рядом с казённой частью…
– Тогда это будет уже не Крещение Господне, ваше сиятельство, а наказанье…
– Для кого как, господа, для кого как! Вас, Аркадий Иванович, попрошу остаться! После службы господ офицеров прошу к обеду, а нам надо закончить бумаги! – сказал командир полка своему заместителю, командиру №1-го эскадрона Аркадию Ивановичу Вяземскому. – Да, – он обратился к полковому адъютанту поручику Щербакову, – Николай Николаевич!
– Слушаю, ваше сиятельство!
– Заплатите старосте нужную сумму, чтобы обеспечить для нас на неделю фураж, сколько ещё тут простоим…
– Будет исполнено!
– И вы, Василий Карлович, на службе долго не задерживайтесь, батюшка нас поймёт!.. – обратился он к командиру №2го эскадрона.
– А не поймёт, так останется голодным, – с усмешкой ответил командир №2-го эскадрона Василий Карлович, барон фон Мекк, и вышел вслед за офицерами.
По случаю Крещения Господня полк был построен на выгоне польского села Могилевицы. Нижние чины и унтерофицеры стояли без головных уборов. Напротив каждого эскадрона из больших чанов церковники поочерёдно наливали драгунам святую воду.
Во вчерашнем бою с прусскими уланами полк потерял четырнадцать человек убитыми, среди них корнет Меликов и вахмистр №2-го эскадрона Сомов, а также четверых тяжелоранеными. Сейчас в №2 эскадроне вместо вахмистра Сомова отцу Иллариону прислуживал унтерофицер Четвертаков, относительно которого командир эскадрона ротмистр фон Мекк только что написал представление на повышение в чине. Убитых отец Илларион уже отпел, их тела в гробах лежали внутри обширной риги на северной окраине села.
– …и остáви нам дóлги наша, яко же и мы оставляем… – пел отец Илларион против №2-го эскадрона, махал кадилом и крестился на полковую хоругвь.
– …и остáви нам дóлги наша, яко же и мы оставляем… – вторили драгуны №2-го эскадрона. Они по одному подходили к чану и подставляли под серебряный ковшик фляжки, туда осторожно, тонкой струйкой, которой играл ветерок, наливал воду, чтобы не расплескать, унтер Четвертаков. Он уже знал, что на него написано представление на повышение через чин, небывалый случай, и так старался, что было видно, как по его лбу на брови и по щекам течёт пот.
Две недели – неделю до Нового года и неделю после – на СевероЗападном фронте не было больших событий, войска двигались, маневрировали, вчерашняя стычка, казалось, была случайной, когда на опушке в нескольких верстах западнее деревни, будучи в охранении, №2 эскадрон столкнулся с неприятельской разведкой.
Эскадрон спешился и залёг, германцы не разобрались и развёрнутым строем по снегу пошли в атаку, их лошади увязли, и германцы были расстреляны. А через несколько минут обширную поляну перед опушкой, где ещё вчера стояли на отдыхе несколько пехотных батальонов, накрыла германская тяжёлая артиллерия, поэтому, когда корнет Меликов и вахмистр Сомов пошли осматривать поле боя, на эскадрон упали четыре бомбы – германская гаубичная батарея сделала залп.
Несмотря на уничтожение вражеской разведки, такие потери были большой неприятностью для полка. Ещё было удивительно, зачем германцы стреляли по уже опустевшему полю. В пылу неожиданного боя никто не заметил, что над полем дал два круга германский аэроплан.
Унтерофицера Четвертакова в эскадроне звали Тайга. Вполне оправданно, потому что он единственный в полку призывался с далёкого, у чёрта на куличках, Байкала, о котором сам Четвертаков говорил с уважением и называл его «море» или «батюшка», а его сослуживцы только слышали, да и то не все, и усмехались: «Тайга-то у нас вона из какой глуши». А он не соглашался, до его «глуши», деревни под названием Лиственничная, или Листвянка, уже дотянулась Великая Сибирская железная дорога, или по старинке «чугунка», и он с гордостью рассказывал, что «ездил на паровозе». Однако для его сослуживцев паровоз совсем не новость – эскадрон, как и почти весь полк, набрали из тверичей, родившихся и живших по обочинам первой российской железной дороги, построенной аж полвека назад императором Николаем I. Поэтому Тайгой они прозвали Кешку Четвертакова уверенно и нисколько не сомневались в своей правоте. И уважали его как «первеющего храбреца» и умелого стрелка.
Кешка наливал в очередную фляжку, когда раздалась команда «Глаза направо!» и у хоругви против №1 эскадрона слез с белого арабчика командир полка полковник Константин Фёдорович граф Ро́зен. Он перекрестился на полковой алтарь, на хоругвь и повернулся к строю, вслед за ним подошёл командир №1 эскадрона подполковник Аркадий Иванович Вяземский.
– Да, господа, Крещение, а морозов… – Полковник поджал губы. – Поручик, посмотрите, сколько сейчас, только на улице… У вас ведь имеется термометр.
Поручик Рейнгардт, командир 1го взвода №2-го эскадрона, накинул на плечи шинель и вышел.
– А что, отец Илларион, не оправдывается примета о крещенских морозах? – Полковник сидел в центре большого стола, рядом с ним стояла восьмилинейная немецкая керосиновая лампа с начищенным медным отражателем, яркие лучи от лампы заливали большую светёлку.
Отец Илларион промолчал, и замолчали в полголоса беседовавшие между собой офицеры, сидевшие вокруг стола и на лавках вдоль стен. Все посмотрели на отца Иллариона. «Я же священник, а не климатолог, что я им скажу?» – подумал отец Илларион, но ответил:
– Так это, господа, по нашему календарю, по православному – Крещение, а поихнему, григорианскому, так оно уж и прошло… – Он не закончил, отворилась дверь, и с градусником вернулся поручик Рейнгардт.
– Минус два по Реомюру, господа, я воткнул градусник прямо в снег.
Офицеры зашевелились, сведения, которые принёс поручик, были, конечно, важные, но сказать на это было нечего. Они стали двигаться на лавках, усаживаясь ещё удобнее, хотя они производили эти движения регулярно последние минут двадцать в ожидании обеда. В других полках, где раньше служили некоторые офицеры, обедали у командира полка, в полковом собрании, однако здесь существовало другое правило. Граф Розен начал службу во время русскотурецкой войны, и в его полку, куда он поступил корнетом, командир был старый и грузный, чемто напоминавший фельдмаршала Кутузова, но ни разу не раненный в голову. По старости лет он не любил шума и суеты и завёл правило, что офицеры обедают у командира №1-го эскадрона, а сам всегда занимал самую неказистую и неприметную избу на любой стоянке в любом походе. Розен не изменил этому правилу, но сейчас в его полку обедали у командира №2-го эскадрона. В октябре прошлого года, перед самой Лодзинской операцией, прибывший в полк на №1 эскадрон из кавалергардов ротмистр гвардии Аркадий Иванович Вяземский намекнул, что первое время ему хотелось бы быть гостем и совсем никак – хозяином. Командир №2-го эскадрона ротмистр фон Мекк был рад такому решению.
– Ну вот, – сказал Розен, – я же говорил, что Крещение, а никаких крещенских морозов… – Он будто бы не расслышал того, что сказал отец Илларион. – Клешня! – позвал Розен.
Из сеней высунулось лицо денщика.
– Что там с обедом, наконец! Заставляете ждать, сукины дети!
– Сию минуту, ваше высокоблагородие, первое уже почти готово, говядинка жестковата, надобно ей провариться, а закуски через секунду будут поданы.
– И вот ещё что, – сказал ему полковник, – пусть приведут пленного! Вы не против, господа?
Офицеры закивали, они были не против, это был первый пленный их полка. До этого тоже были пленные, много, но полк наступал, и пленные оставались в тылу. Сейчас полк стоял.
– А то негоже, господа, как я думаю, хотя и унтерофицер, полковой писарь, мы же не допрашивать его будем, в конце концов… А стакан пунша ему налить! Пусть даже не крещенский мороз, чтобы до утра не замёрз.
– Я уже дал команду, господин полковник. – Это сказал вошедший за Клешнёй командир №1-го эскадрона Вяземский: – Сейчас его приведут, он со вчерашнего дня пытается нам чтото сказать.
Клешня согнулся, он был одет в солдатскую рубаху и штаны, на погонах был витой кант добровольца, однако по повадке ни дать ни взять половой из какогонибудь московского или тверского кабака.
– Только полотенца на локте не хватает, – шепнул один офицер другому, именно шепнул, хотя все офицеры полка держались одного мнения, и не зря – вольноопределяющийся Сашка Павлинов был москвич по рождению и действительно подавальщик из трактира Тестова, что на углу площадей Театральная и Воскресенская, в ста шагах от Красной площади. По своему охотному желанию он был взят на службу в драгуны, но был выписан из строя, потому что или ростом оказался слишком высок, или имел неправильное строение скелета и сбил холки трём строевым лошадям. Писарь донёс командиру, что Павлинов по этому поводу горюет и что он московский половой, и полковник предложил ему место денщика. Это было вовремя, потому что прежнего денщика ранило шальной пулей, и он был отправлен на лечение в тыл. Прослужив три дня у полковника, Сашка ощутил себя хотя и не героем, каким хотел стать, но на месте. Ему было стыдно за испорченных боевых коней, но и собственного копчика тоже было жалко.
Гробы с погибшими сгрудили к стенке риги, и №2 эскадрон занял её. Пленному германцу отвели угол. До взводного Четвертакова довели приказ доставить пленного к командиру. Четвертаков подозвал ближнего драгуна и дослал патрон в патронник. Германец сидел в своём углу, он сверху накинул шинель, а под себя нагрёб сено. «Ох и зажрут его», – подумал Четвертаков про пленного германца и блох, которые наверняка уже нацелились на свою жертву.
– Вставай, немчура, иди за мной! – махнул он рукой и повернулся к воротам риги.
– Ja, gut, natürlich! MarschMarsch! – обрадовался пленный, вскочил, стряхнул сено и стал надевать в рукава шинель. Он был высокий, крепкий, с ясными глазами и чистым лицом, румяным, как у девицы с мороза. – Ich möchte Ihnen sagen, Ihr Kommandant…
Четвертаков оглянулся на слова пленного, а потом посмотрел на шедшего рядом драгуна и спросил:
– Понимаешь, чего он балабо́нит?
Драгун хмыкнул и сплюнул:
– Куды нам?
– Вот и я думаю! – Четвертаков повернулся к пленному: – Погодь, не балабонь, ща доставлю тебя куда надо, там всё и обскажешь!
– Ja, gut! MarschMarsch! – сообщил пленный и стал похлопывать себя по плечам.
– Уу! Немчура! – притворно замахнулся Четвертаков, но пленный не испугался и не обиделся.
– MarschMarsch! – повторял он нетерпеливо и улыбался. – Kommandant!
А Четвертаков и не хотел его обижать, и пугать не хотел. Он понимал, что идёт война. Конечно, его друга Сомова жалко, но у каждого своё счастье или несчастье, а германца обижать нельзя, он пленный. С другим германцем столкнулся Четвертаков под Гумбинненом и под Лодзью, но тот германец был вооружённый, и его было много. За эти столкновения Иннокентий Четвертаков первым в полку получил солдатскую серебряную Георгиевскую медаль.
Около избы командира №2-го эскадрона он увидел Клешню.
– Доложи их высокоблагородию, што пленный доставлен.
Клешня кивнул, ушёл в дом, через секунду выглянул и махнул германцу.
– Ну вот! – сказал Четвертаков сопровождавшему драгуну. – Сдали с рук, можно итить вечерять!
– Так точно, господин унтерофицер! – ответил драгун.
Клешня препроводил пленного:
– Биттедритте, хер!
– Was?
– Нас, нас! – Клешня шагнул в сторону и легонько подтолкнул германца, тот переступил порог и оказался в ярко освещённой светёлке, перед офицерами. Он растерялся и замер.
– Кто вы? Как вас зовут? – услышал он от того места, где сияла лампа. Он посмотрел и сощурился, вопрос был задан по-немецки.
– Писарь штаба восьмого прусского уланского полка, унтерофицер Людвиг Иоахим Шнайдерман, я вас не вижу изза яркого света, господин…
– Полковник! – сказал сидевший в центре стола офицер и сдвинул лампу.
– Господин полковник…
– У нас сегодня праздник Крещения, господин унтерофицер, не откажетесь выпить стакан пунша?
– Премного благодарен, господин полковник, но я хочу вам сказать, что… – Унтерофицер увидел, что полковник, сдвинувший лампу, хотел его перебить, но рядом с ним сидел другой офицер, тот дотронулся до локтя полковника, и полковник удивлённо посмотрел на него. Офицер чтото сказал, полковник, недовольный, заёрзал и откинулся на стенку светёлки.
– Мы не допрашиваем пленных, но если вы хотите сами чтото сказать, мы вас слушаем, – сказал офицер, на плечах которого были погоны с золотым шитьём, двумя продольными красными полосками и тремя звёздочками. Его сосед, назвавшийся полковником, тоже имел золотые погоны с двумя полосками, но без звёздочек.
«Значит, этот что, подполковник?» – подумал пленный.
– Господин…
– Подполковник.
– Господин подполковник, у меня есть что сказать… Нам всем грозит большая опасность.
– Нам всем грозит большая опасность, потому что мы все на войне, – произнёс полковник, в его голосе прозвучало недовольство и раздражение.
Пленный на секунду задумался, ему было понятно, что имел в виду полковник, однако он проявил упорство.
– Могу я попросить у вас карту или хотя бы чистый лист бумаги?
Пленному не ответили.
– Я пошёл в армию добровольцем со второго курса естественного факультета университета города Кёнигсберг…
– Сейчас вам дадут чистый лист бумаги… – сказал подполковник, и пленный тут же его спросил:
– А который сейчас час?
После того как прозвучал этот вопрос, снова недовольным голосом заговорил полковник порусски, и пленный понял только, что тот произнёс «генерал Шлиффен».
«Ага, значит, он думает, что я сумасшедший и выставляю себя в качестве начальника германского Генерального штаба Шлиффена, но он не прав, сейчас начальником – генерал Мольтке!» У пленного было время поразмышлять, потому что бумагу и перо с чернильницей принесли и положили перед ним только что.
– Господин полковник! – обратился пленный. – Вот это деревня, в которой квартирует ваш полк. – Пленный быстрым движением нарисовал на бумаге угловатую геометрическую фигуру. – Об этом донесла наша аэроразведка. В шести километрах отсюда поставили нашу гаубичную батарею, примерно вот здесь, тут железная дорога. – Он ткнул пером в край листа. – Сегодня будет обстреляна деревня, эта, – он показал пальцем себе под ноги, – а завтра, если будет ясная погода, сюда прилетят аэропланы посмотреть на точность стрельбы. Стрельбу должны начать через три часа.
Офицеры не все понимали по-немецки, понимали полковник, подполковник, ротмистр фон Мекк и поручик Рейнгардт. Остальные переглядывались, когда германец говорил, и внимательно слушали, когда звучал перевод.
– Он лазутчик, господа! – раздражённо произнёс полковник Розен, когда пленный закончил. – Он послан, господа, чтобы заставить нас покинуть эту деревню и выйти в голое поле, господа! Вот там нас и накроют!
Пленный слушал раздражённую речь полковника, но при этом он слышал молчание офицеров. Первым заговорил подполковник:
– Вы с этой батареи?
– Никак нет, батарею перевели с Западного фронта, откудато из Бельгии…
– И вы…
– Надоело сидеть в штабе… – не дал ему договорить пленный.
– Понятно. Захотелось повоевать… А откуда вам известно про бомбардировку?
– Я видел бумаги, а вчера над вами летал аэроплан, он производил разведку. – Пленный увидел, как стали переглядываться офицеры и, стараясь, чтобы не было заметно, кивали друг другу.
– Чем вы ручаетесь за ваши слова? – спросил подполковник.
– Всё очень просто, господин подполковник, – ответил пленный, – давайте останемся здесь все вместе…
Снова порусски заговорил полковник:
– И если через три часа не начнут стрелять германские пушки, я отдам приказ его расстрелять, согласны, господа?
Офицеры закивали, пленный не понял ничего, кроме слова «германские», но понял смысл сказанного и кивнул, выражая своё согласие.
– Он говорит, что согласен, он вас понял, господин полковник, – обратился Вяземский к Розену.
– Я же говорю – лазутчик, если ещё и порусски понимает! Так что будем делать, господа? – обратился к офицерам полковник Розен.
– Вопервых, думаю, надо предупредить деревенского ксёндза, пусть уводит население, а вовторых, и нам надо быть готовыми покинуть деревню, – ответил за всех Вяземский.
– И расстрелять этого суккина сына ровно через три часа, если обстрела не будет! – раздражённо пробормотал Розен.
– Разрешите? – спросил пленный.
– Слушаем вас, – ответил Вяземский.
– Вчера эта батарея уже вела пристрелку, и ваш эскадрон попал под её огонь, один залп, четыре выстрела, я там был…
Когда Вяземский переводил, офицеры хранили молчание.
– Я, – сказал пленный, – обычный немец, доброволец германской армии и готов умереть в бою от пули противника, врага, но не от своей, это было бы глупо.
– А должен был бы радоваться, – прошептал поручик Рейнгардт командиру №3-го эскадрона ротмистру Дроку, – что не выдал планов. Сам погиб, но при этом позволил уничтожить тыл противника и целый драгунский полк. Всё же его надо расстрелять, даже если он говорит правду.
Дрок посмотрел на Рейнгардта и ухмыльнулся.
– Сашка! – крикнул полковник. Вошёл Клешня. – Налей ему пунша, дай закуски и выведи отсюда, только недалеко.
– Вас сейчас накормят, – перевёл пленному Вяземский.
Клешня взял пленного за локоть и вывел в сени, там усадил в самом дальнем углу, налил стакан пунша и пододвинул тарелку с колбасой.
– Давай, немчура, подкрепись! – сказал он и с другими денщиками стал переносить в светёлку чугунки́.
Офицеры ещё обсуждали слова пленного, но уже посматривали в сторону Клешни, как тот накрывает на стол. Это действие длилось не очень долго, всего лишь несколько минут, но они как заворожённые смотрели, как Клешня расставляет посуду, раскладывает холодные закуски, протирает и кладёт на стол приборы. Когда он выходил за следующим блюдом, офицеры переглядывались и строили восхищённые мины. Клешня поражал всех своими движениями, и никто не мог их разгадать: когда он чтото клал на стол, то впечатление было обратное, что он не кладёт, то есть поднимает, переносит и ставит, а, наоборот, что он скрадывает, и казалось, что вилка, нож или салфетка должны исчезнуть в его шевелящихся пальцах, а они вместо этого оказывались на столе. Как это получалось, никто не понимал. Сашка тоже этого не понимал, он ничего специально не придумывал, но ему нравилось, как танцуют и завораживают его пальцы, осторожно и хитро́, за эту рачью манеру и был прозван «Клешнёй». Старший приказчик у Тестова был очень расстроен и даже рассержен, когда узнал, что Сашка Павлинов подал прошение о поступлении в армию охотникомдобровольцем.
– Ну что, господа, с праздником! – провозгласил полковник Розен, когда стол был накрыт. – Отец Илларион, начинайте.
Отец Илларион прочитал молитву, и офицеры приступили к обеду.
– Что вы думаете обо всём этом, Аркадий Иванович? – спросил Розен.
– Я думаю, что от каждого свинства надо бы научиться оторвать свой кусок ветчины, это, Константин Фёдорович, такая восточная мудрость.
– Не темните, Аркадий Иванович.
– Да я и не темню, ваше сиятельство, – промолвил Вяземский. – Конечно, этот студент заслужил расстрела за такое предательство, однако война, ваше сиятельство, как мы уже поняли, далеко потеряла оттенок рыцарства, с которым мы начинали в августе под Гумбинненом, это уже другая война. Вспомните, как пулемёты выкашивают кавалерию, как на сенокосе… сотнями.
Розен стал печально кивать.
– Разве белый генерал мог такое предположить? – продолжал Вяземский.
– Да… Михал Дмитрич… хотя он был светлая голова, думаю, он быстро расставил бы всё на свои места.
– Согласен, поэтому генерала Скобелева так все и ценили, не за одну только храбрость… – Вяземский был вынужден прерваться, потому что вошёл адъютант.
– Прошу! – обратился к нему Розен. – Мы уже обедаем. У вас новости?
– Мимо совершает променад рота пластуно́в, просятся рядом на ночлег, не будет ли каких распоряжений, господин полковник?
Вяземский вскинул глаза и произнёс:
– Это очень кстати, Константин Фёдорович!
Розен посмотрел на Вяземского.
– Это очень кстати, Константин Фёдорович! – повторил Вяземский.
– Да, да, конечно, пусть у нас переночуют, а заодно и накормить…
– Слушаю, господин полковник, разрешите исполнять? – спросил Щербаков.
– Исполняйте, голубчик. – Розен махнул рукой и посмотрел на Вяземского, у того светилось лицо. – Однако вы чтото задумали, батенька, нука поясните!
Деревенский ксёндз отказался выводить односельчан вместе с полком в голое поле.
– Не! Мы пуйджéмы до лясу, – сказал он, обращаясь к Розену. – Там кажда роджи́на мáе стодоле и там ест мéйсце для быдла, пан полковник.
– Как знаете, господин ксёндз, землянки в лесу – это хорошо, тем более у каждой семьи, но тяжёлая артиллерия даёт большой разлёт, снаряды могут попасть в лес, это опасно, – сказал Вяземский.
Ксёндз подумал и ответил:
– Трафи, не трафи, то тылько бог вье, а ежели быдло змарзнье, то бенджье бардзо зле.
– Ну, как знаете! «Повезёт, не повезёт», – повторил он слова ксёндза. – Вам нужна помощь?
– Помоц потшебна. Гды ващи жолнеже зачнон алярмовачь, нех одразу будзон хлопув, а юж далей я сам с тым порадзэ. Война вшистких нас научила ще зберачь в крутким часе.
– Что в итоге? – спросил Розен.
– Надо, чтобы наши солдаты поднимали по тревоге сельских жителей, там, где стоят, – довёл смысл сказанного Вяземский и спросил: – Объявлять тревогу?
– Объявляйте! И пригласите отца Иллариона.
Отец Илларион отказался уходить с полком и настоял на том, что он останется в селе с незахороненными погибшими во вчерашнем бою. Ни на какие уговоры он не поддался и наотрез отказался от охраны.
– Кого охранять, ваше сиятельство?
Розен был ответом батюшки очень раздосадован, но и рисковать полком не мог.
Сашка Клешня приторачивал к седлу тяжеленное хозяйство – два огромных казачьих вьюка, шитых из воловьей кожи, в них помещался стол полковника. К другому седлу уже приторочены ещё два вьюка с гардеробом полковника. Был ещё третий то́рок с такими же вьюками, в них находился пищевой припас полковника и его винный запас. Первая и третья пара вьюков – самая ценная, и в случае утраты Сашка мог пострадать. Сыромятные торока толстые, грубые, пальцы у Сашки тонкие, нежные, и он еле справлялся. Пальцам было холодно и невмоготу, не по силам, однако помощи ждать было не от кого, и он терпел. Команду собираться по тревоге полковник отдал ещё во время обеда – полку выдвинуться в ночь, и дано на это было полчаса. Через час полк должен был находиться в версте от деревни.
Сашка вязал узлы, терпел боль, но успевал и оглянуться, и каждый раз, когда оглядывался, видел, что по главной длинной улице Могилевицы движутся в противоположные стороны два потока: один поток верхом – драгуны, и они двигались на северовосток; а другой пешком на югозапад, ведя на верёвках «быдло». «Быдло» вели «хло́пи» с «роджи́нами»: на подворьях польских крестьян было много крупного и мелкого скота. Только что вывез своё хозяйство соседствовавший с избой полковника Розена крепкий крестьянин Петша. Он одного за другим вывел трёх коней, двух волов, бычка, шесть бурёнок и около десятка овец. Птицу Петша оставил. Петше помогала его «жо́на» Мары́ся и старшая «цу́рка» Бáрбара – Варварушка, как на русский манер переименовал её Сашка. Они несколько раз уже успели переглянуться через невысокий тын, один раз Сашка даже подмигнул, а Варварушка не отвернулась. Осталось угоститься на двоих семечками и завести разговор.
«Эх, твою мать, – с досадой думал Сашка, – толькотолько переглядки начались, и вот тебе – тревога, и до семечек не дошло!»
Ветер отогнал в сторону тучи, и над широким заснеженным полем повисла яркая луна.
«Будто электричество на Невском!» – подумал Вяземский.
«Аки факел на столбу!» – поглядывал на луну Четвертаков.
– Не заблудитесь, Четвертаков? – обратился Вяземский.
– Как же, ваше высокоблагородие, скажете тоже. Коли я заблужусь, так мне в тайгу, домойто, и вертаться будет заказано, Хозяин уважать не станет.
– А то, что днём там были, ничего?
– А мне всё едино, што день, што ночь, вона как луна вся вы́зверилась на небе!
Ровно под луной чернело село, а с северозапада острым углом в деревню упирался непроглядный лес.
– Рысью маарш! – скомандовал Вяземский, тронул повод, и его чистокровная пошла по наезженной санями дороге между полей.
«Экий он всётаки! – глядя в спину Вяземскому, думал Четвертаков. – Десятиаршинный, недаром из кавалеров!» – Слово кавалергард ему не давалось. Кешка видел таких на цирковых афишах в Иркутске и в Москве, только сам в цирк не попал, однако после увиденного и не надо было, а то вдруг там хуже?
Через сорок минут Вяземский первым выехал на большую, залитую лунным светом поляну, куда вчера стреляла германская артиллерия, и подозвал командира роты пластунов.
В лунном свете ротный и драгунский конь, на котором он сидел, выглядели запанибратски: конь шёл вперёд, но голову склонил вбок; ротный сидел в седле, а смотрелось так, будто он балансирует на подлокотнике кресла; и было совсем непонятно, каким образом папаха ротного держалась на его правом ухе, потому что над левым ухом ротного бушевал вихрево́й чуб.
Четвертаков не отставал.
– Ты погляди, а немчура своих так и не подобрала, – оглядывая поляну, промолвил Кешка. Ротный глянул на него и удивился, что унтер начинает разговор «поперёд» своего командира. Вяземский тоже посмотрел на Четвертакова, как тот понял, с укоризной. Он прикусил язык. Вяземский достал часы.
– Через пять минут, – сказал Вяземский.
После обеда и совещания у Розена, получив разрешение выполнить свой план, подполковник Вяземский набрал отряд добровольцев из состава полка и пластунов. Отдельно у ротмистра фон Мекка он попросил Четвертакова, как участника вчерашнего боя с прусскими уланами и опытного следопыта. Всего в отряде Вяземского получилось шестьдесят сабель, в числе которых было двадцать пластунов.
– Четыре минуты! – глядя на хронометр, промолвил Вяземский.
Но только через семь минут затропотали кони, они первыми почувствовали, как под их ногами дрогнула земля. Ещё через минуту отряд услышал звук артиллерийского залпа.
Вяземский подумал: «Опаздывают!» – и посмотрел на Четвертакова.
– Тама! – махнул рукой Четвертаков на северо-запад, дал коню шпоры и повёл отряд.
По наезженным польским зимним дорогам отряд Вяземского шёл по три всадника в ряд. Луна освещала дорогу, снег отражал в полную силу, свет впитывался только в чёрные рощи и перелески.
Четвертаков и ротный посмотрели на небо одновременно. С запада на луну наползала туча и вотвот должна была закрыть, на туче снизу вспыхивали отсветы выстрелов.
«Теперя не ошибусь!» – удовлетворённо думал Четвертаков.
«Везёт ссукину сыну!» – позавидовал Четвертакову ротный.
«Молодцы, ребята, хорошо дело знаете!» – радовался за обоих Вяземский.
По карте за деревней Бя́лаМазовéцка, откуда стреляла крупнокалиберная гаубичная батарея, по самой её окраине проходила железная дорога. Для германских артиллеристов это было удобно: отстрелялись и передислоцировались.
Перед батареей в нескольких сотнях саженей должно сидеть передовое охранение, а перед ним дозоры разведки, значит?..
– Верста! – крикнул ротный. – Осталася верста, вашскобродие!
Вяземский пришпорил Бэллу и возглавлял скачку. Всего германцы дали одиннадцать залпов. Вяземский засёк, между залпами проходило до двух минут. Сейчас после залпа прошло уже больше трёх минут, и получалось, что этот залп последний. Если так, то весь план: пока стреляют, подобраться как можно ближе к батарее, пустить вперёд пластунов, они вырежут разведку и охранение, а потом наскочить на батарею и забросать её гранатами – может сорваться.
– За мной! По два в ряд!
Подполковник Вяземский пустился через поле, теперь он и сам знал, где находится германская батарея. Облака закрыли луну, но заснеженное поле светилось, подмороженный наст был неглубок, на просторе снег сдувало ветром. Вяземский помнил, где на облаках отражались сполохи от выстрелов, и управлял Бэллой. О том, что его Бэлла может споткнуться, не думал.
«Сейчас главное не осторожничать!» – смотрел он вперёд и слушал топот скачущих позади драгун.
Он увидел вспышки, это открыли огонь пулемёты, до них осталось саженей сто. Он глянул на ротного и на Четвертакова, те скакали на полкорпуса сзади, и за ними скакали пять с лишним десятков всадников. Германским пулемётчикам было трудно попасть в темноте в узкую, только угадывающуюся на поле под плотным чёрным небом цель. Вяземский показал ротному на пулемёты и замедлил ход. Тот привстал в стременах, козырнул, пошёл вперёд, и пластуны устремились за ним. Вяземский видел, как двадцать пластунов разделились пополам на две стороны, проскакали ещё саженей пятьдесят, соскочили с коней, повалили их на землю и исчезли. Он услышал, как по ним стреляют, вспышек стало много, и он снова пришпорил Бэллу.
«Пройти охранение как шилом!» – стучала мысль.
«Проскочить охранение!» – понимал действия командира Четвертаков и, хоронясь от свистевших пуль, склонился к шее Красотки. Про себя он называл её Чесотка, потому что кобыла была с норовом.
Охранение оказалось в две линии, лежали стрелки, а за ними закопались две пулемётные точки. За спиной пулемётчиков проходила железная дорога.
«Батарея за железной дорогой, значит, надо проскочить. Хорошо, что Польша такая ровная и нет высоких насыпей».
Однако через рельсы и по шпалам пришлось переходить шагом.
Батарея расположилась на скотном выгоне Бя́лаМазове́цкой, растянувшемся вдоль железнодорожного полотна. На ровной площадке ещё пока стояли четыре гаубицы, и вокруг суетились тридцать или сорок человек артиллерийской прислуги и охрана, ждали платформы.
– Руби! – скомандовал Вяземский и пошёл на дальнее слева орудие.
На него набегал германец с длинной винтовкой, Вяземский застрелил его из револьвера. Второго германца он зарубил шашкой, третьего сшибла Бэлла, несколько человек побежали в разные стороны, и гоняться за ними было некогда, он только двоих застрелил, остановился около орудия, к нему присоединился вахмистр Жа́мин, Четвертаков и ещё несколько драгун его эскадрона, они стреляли по бегавшим немцам и ждали. Через несколько минут к ним подскакал эскадронный кузнец, он заклепал замок орудия и сбил панораму. Стволы орудий уже были в походном положении, и в ствол последнего, четвёртого, Четвертаков от лихости бросил ручную гранату, она взорвалась, получилось как выстрел, и им оторвало полголовы у драгуна Ивова. Вяземский это увидел, а Четвертаков нет.
«Ну что с ним сделать после этого, с варнаком сибирским?» – подумал Вяземский и только мысленно развёл руками, он знал, что ему на это сказал бы каждый солдат, мол, жаль убиенного, однако и самому по сторонам «глядеть надобно». Кроме Вяземского, свидетелем этого несчастного случая были кузнец и вахмистр №1-го эскадрона Жамин.
Возвращаясь, отряд перешёл через железную дорогу, и к нему присоединился ротный со своими пластунами.
– Охранение? – спросил Вяземский.
– Всех…
– Потери?
– Трое наповал и две лошади.
– И у нас трое. Раненых пока не считали.
– Можете скольнибудь ваших посадить по дво́е? – попросил ротный.
Пластуны, как все казаки, своих убитых не оставляли на поле боя, это было известно. Вяземский попросил подобрать и его драгун, подозвал Жамина и распорядился насчёт предоставления казакам нужного количества лошадей.
Версты за две Вяземский понял, что зарево впереди – это горящая Могилевица, а когда подъехали ближе, стало видно, что пылает и лес.
Отряду понадобился час, чтобы средней рысью вернуться к полку. Полк стоял в версте от разбитой Могилевицы в состоянии растерянности. Розен послал к лесу шестой эскадрон, но драгуны не смогли войти в пожарище, они только подобрали с три десятка воющих обгоревших «хлопув» и «жонок», несколько человек умерли тут же на снегу, по полю бегали и ревели обожжённые коровы, и догорали живыми факелами длинношёрстные овцы. Такого зверства никто из драгун ещё не видел. Третий эскадрон Розен направил в горящее село на розыски отца Иллариона, того нашли и вывели седого. Унтерофицер Людвиг Иоахим Шнайдерман был расстрелян. Из всех офицеров об этом сожалел только Аркадий Иванович Вяземский.
Денщики растянули большую палатку, на походе она служила полковым офицерским собранием. Клешня и денщики суетились внутри и накрывали завтрак, а Розен и Вяземский отошли в угол и обсуждали итоги ночного дела. Вотвот должны были подойти офицеры.
– Что скажете, Аркадий Иванович?
– Немного, Константин Фёдорович, только думаю, что германцы накапливают силы для большого дела.
– Почему вы так думаете?
– Вопервых, потому, что они ставят тяжёлую артиллерию на одну линию с полевой, то есть не в тылу, а почти на передовой. Вовторых, охранение батареи не закопалось в землю, они всего лишь отрыли неглубокие окопы…
Вяземский не успел договорить, и он и Розен услышали странный звук, напоминающий рокот мотора, только мотор рокотал гдето вверху и очень громко. В палатку заглянул вестовой:
– Какие будут указания, ваше высокоблагородие?
– А что это? – удивился Розен.
– Не могу знать, рокочет, – отрапортовал вестовой. – Только поначалу было совсем тихо, а вдруг сразу громко… и над головой.
– Аэроплан, господин полковник, – тихо произнёс Вяземский, – как вчера пленный и говорил, прилетели смотреть точность попадания.
– Давайте-ка мы выйдем, – Розен накинул шинель. – А то както, знаете ли, неуютно я себя чувствую… над головой летают, а мы даже не видим…
Они вышли из палатки и стали смотреть.
Сожжённая Могилевица находилась в версте. Между северо-восточной окраиной и ближним к ней №1 эскадроном лежала мочажина. Ночью, не разобравшись, туда сунулись верхами и чуть не утопили коней, кони провалились в накрывший болотину снег по брюхо, и это было, видимо, не самое глубокое место. В селе сгорело всё, только торчал костёл, каменные трубы изб и дом ксёндза. Не сгорела рига, её обошли и зажигательные снаряды, и поднявшее тягу до самого неба пламя, охватившее село. Сейчас от пепелища поднимался белёсый дым, он смешивался с низкими облаками, и, если бы не запах свежего пожара с привкусом чегото отвратительного, можно было подумать, что на землю лёг плотный туман и он застилает всю округу. Того, что рокотало в небе над облаками, было пока не видно.
– А что же он летает, если ничего не видно? – спросил Розен, задрав голову.
– Наверное, надеется, что в облаках могут быть окна, разрывы, – не слишком уверенно ответил Вяземский, он тоже смотрел вверх. Полковник хмыкнул:
– А столько дыма они не предполагали? Тут же больше дыма, чем…
Он не договорил, в мочажине поднялся снежноводяной столб, в основании которого была чёрная земля, и через секунду раздался грохот.
– Он ещё и бомбы кидает! – взвился Розен. – Чёрт знает что это за война такая, раньше хотя бы небо нам ничем не угрожало, только божьим наказанием, дождём или снегом! Что же это за вольности такие?
Вяземский ухмыльнулся, про таких отставших от современной жизни старых офицеров в личных формулярах писали: «Общее образование получил дома, военное – на службе»…
– А чувствуете, какой запах идёт от этого дыма? Чем это они сожгли деревню и лес? – Вопросы Розена повисли в воздухе. – В лесто попало снаряда четыре, а горит, будто его маслом полили, а? Аркадий Иванович?
Подполковнику очень хотелось высказаться по поводу того, что вчерашнего пленного поторопились расстрелять, но, вопервых, приговор был приведён в исполнение, а вовторых, германцы и задержались-то с обстрелом всего на семь минут.
– Четвертаков сорвал с когото из германцев, судя по всему, с офицера…
– А что же это он, сукин сын, не разобрал – с кого?
– Это было трудно, ваше сиятельство, я на него не в претензии. Было темно, и все германцы были в прорезиненных пелеринах, а на шишаки надеты защитные чехлы, чтобы не отблёскивали, поэтому все выглядели одинаково… Он сорвал, как оказалось, полевую сумку, в ней карта, хотел вам показать…
Полковник пожался от холода:
– Пусть его, раз вы на него не в претензии… Смотрите, уже и господа офицеры идут, доло́жите нам всем, пусть все послушают, да и завтрак уже готов. – Розен постучал сапогами, сбивая с носков снег. – И вы, голубчик, постучите, не будем нести в палатку сырость, господа офицеры сейчас и так натащат.
Офицеры уже столпились у по́лога, Розен приподнял край, потом оглянулся, с сожалением посмотрел на сапоги подошедших и безнадёжно махнул рукой:
– Заходите, господа, заходите уже, и я не вижу отца Иллариона!
Вокруг раскладного стола не было стульев, офицеры стояли. Ближний к пологу выглянул наружу и сказал:
– Ведут!
– Как ведут, кого ведут? – удивлённо спросил Розен.
Полог отодвинулся, и в палатку, поддерживаемый под руки вахмистром Жаминым и унтером Четвертаковым, неуверенно шагнул отец Илларион.
– Табуретку бы ктонибудь придумал… – Полковник был сильно расстроен, и в этот момент просунулся Клешня с раскладным табуретом. – Ну вот так, что ли! Присаживайтесь, отец Илларион.
Вяземский внутренне ахнул. Он слышал о подвиге полкового священника, тот провёл весь обстрел в молитве рядом с гробами погибших в позавчерашнем деле и пока незахороненных драгун. Отец Илларион состарился и поседел.
Жамин и Четвертаков вышли.
– Не обращайте на меня внимания, господа, – тихим голосом, почти шёпотом сказал священник.
– Налейте ему пуншу, господа, если не затруднит. Сегодня, в честь спасения полка – без чинов! Аркадий Иванович, прошу!
Вяземский коротко рассказал о деле с германской батареей, показал карту, на ней было ясно видно, что обстрелу должно была подвергнуться не только село, но и лес.
– Такое ощущение, господа, что германцы чтото испытывали в этих снарядах…
– Это фосфоы, господа, снаъяды были снаъяжены фосфоом, поэтому всё так гоъит, – размеренно произнёс полковой врач Алексей Гивиевич Курашвили. – Он гоъит, пока не выгоъит весь.
Офицеры обернулись.
– Да, господа, это очень пъотивная штука. – Курашвили картавил. – Белый фосфоы сгоает весь со всем тем, на что он попал. Можно потушить, только если пеекъыть доступ кислоода, напъимеъ набъосать свеъху одеял… или шинелями.
Кешка, держа в полотенце, внёс большую серебряную ендову́, из неё парило.
– Пуншу, господа! – сказал Розен. – Отец Илларион, вам особо рекомендую, у вас вид нездоровый. – Розен махнул рукой Сашке, тот поставил ендову́ на стол и стал половником наливать пунш в серебряные стаканы. Судя по виду, и чашаендова́, и стаканы были турецкие. Это и был стол полковника, которым тот дорожил и возил с последней турецкой войны, где был ещё корнетом. Сашка глянул на Розена, тот кивнул, и Сашка первый стакан подал отцу Иллариону.
– Только не обожгитесь, батюшка, – тихо сказал Сашка.
– Спасибо, голубчик, – глянув в глаза Сашке, ответил отец Илларион и стал дуть на горячий пунш. Губы у него тряслись.
– Ну что, господа, если обстановка нам ясна, приступим, прошу… – Розен широким жестом показал на стол. – А вас, Аркадий Иванович, прошу составить представления на награды… пластунов прошу особо…
Полковник не успел договорить, раздались один за другим два взрыва, ближние к пологу офицеры вышли и вернулись смущённые.
– Что это? – спросил Розен.
– Две бомбы, – ротмистр Дрок замялся, – попали…
– Куда? – Все смотрели на него.
– В ригу…
Четвертаков и Жамин возвращались от палатки офицерского собрания. Они вошли в деревню и закрылись рукавами, дышать едким дымом было невозможно. Пятнадцать минут назад Жамин получил команду собрать из всех эскадронов людей и откопать братскую могилу. Сейчас и Жамин и Четвертаков боковым зрением видели, как по белому полю к чёрной сгоревшей деревне пешим порядком следует колонна драгун. Лопатами вахмистр ещё вчера разжился у селян, и сегодня драгуны несли их как карабины по команде «на плечо». Колонна уже подходила к дымящимся развалинам крайних построек, ветер понемногу разгонял дым и гарь, и стало видно длинную крышу риги. Вдруг она вздрогнула, в эту же секунду вздрогнули воздух и земля, и крыша исчезла. Оттуда, где она стояла, вырвалось пламя и раздался оглушительный грохот. Четвертаков и Жамин остановились.
– О как! А кого же теперя хоронить? – через секунду спросил Четвертаков у Жамина.
Жамин постоял и мотнул головой. Четвертаков ждал, что тот скажет, и Жамин сказал:
– А всё же надо дойти глянуть, чего там, может, кого ещё и можно схоронить, один тама твой, – сказал он и, не глядя на обомлевшего Четвертакова, зашагал вперёд. Четвертаков его догнал:
– Какой мой, Сомов, што ли?
– Не, не Сомов, с ним всё ясно, а Ивов! Знаешь такого?
Четвертаков попытался забежать вперёд Жамина, но тот шёл быстро, проход по улице изза жара от подворий справа и слева был узкий, и за Жаминым можно было только гнаться. Четвертаков дёрнул вахмистра за рукав, это было не положено, но Четвертаков знал, что бумага на него написана и что не завтра, так послезавтра он прыгнет через чин и тоже станет вахмистром. Жамин резко остановился, Четвертаков на него налетел, но Жамин не шелохнулся, только из себя выдавил:
– А не наскакивай, Четвертаков, не наскакивай, убил раба божьего Ивова, а теперь наскакиваешь, думаешь, ты тут один – герой?