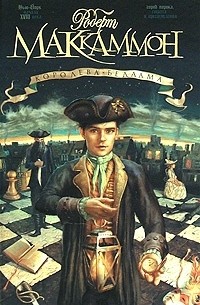Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
Глава 6
Очнувшись ото сна, в котором он убивал Эбена Осли, Мэтью лежал в темноте у себя в постели и думал, как просто было бы убить Эбена Осли.
Например, так. Подстеречь его на выходе из «Слепца», где директор приюта пьет и играет в карты целую ночь, а затем пойти следом, держась подальше от фонарей. Или – еще лучше – заблаговременно устроить где-нибудь засаду. Как только загремят тяжелые сапоги по мостовой… Нет, сперва надо убедиться, что это он, – потянуть носом воздух. Разит гнилой гвоздикой? Ага, значит, точно он!
Вот он все ближе, ближе. Пусть подойдет, а мы пока придумаем, как с ним лучше обойтись. Необходимо орудие убийства, разумеется. Нож? Нет, слишком рискованно. Напорешься на кость – и он, чего доброго, убежит, голося на всю округу. Да еще кровью все зальет. Ужасно неприятно. Что ж, тогда – удавка? Ну-ну, попробуй затяни удавку на шее у эдакого борова – надо ведь покрепче, чтоб у него глаза из орбит полезли! Нет, он тебя мигом стряхнет, как блоху.
В таком случае – дубина. Да-да, крепкая, тяжелая булава, чтоб черепа раскраивать. В «Газетт» писали, что такими торгуют в разбойничьих притонах на Мэгпай-элли. Дашь звонкую монету темноликому злодею – и выбирай инструмент на свой вкус. А, вот отличная, ее-то нам и надо! С железным выступом вдоль всего навершия, – так удар вернее будет. Вон она, висит под кинжалами на всю пятерню – «обезьяньей лапой» – и мешочком гвоздей размером с кулак.
Мэтью сел, взял с прикроватного столика трутницу, зажег спичку и поднес ее к фитилю свечи в глиняном подсвечнике. Пламя разгоралось, прогоняя безумные, правдоподобные – и весьма жуткие – картины. Наважденье понемногу рассеивалось, однако Мэтью знал, что во сне подстерегал Осли с черной целью и в конечном итоге убил подлеца. Как? Чем? Неизвестно. Запомнилось лишь его мертвое лицо, остекленевшие глаза и глумливая усмешка, которая наконец сошла с его губ, когда он увидал, какие пытки заготовил для него дьявол.
Мэтью вздохнул и потер лоб. Он может всей душой и сердцем мечтать о смерти Осли, но убить его он не в состоянии – равно как и остаться с ним наедине.
«Надо тебе найти другую цель в жизни, получше этой», – говорил Джон Файв.
– А, к черту! – неожиданно сорвалось с его губ.
Джон Файв, безусловно, прав.
Пора положить этому конец. Мэтью давно уже осознал, что его надежда вывести Осли на чистую воду висит на волоске. Ах, если бы удалось заручиться показаниями Галта, Кови или Робертсона… Да хотя бы и одного из них! Даже одного свидетеля хватит, чтобы горшок Осли дал трещину. Но подумать только, что пришлось пережить Натану Спенсеру!.. Несчастный решил повеситься, лишь бы Нью-Йорк не узнал об издевательствах, которым его подвергали в детстве. Разве оно того стоило? Натан был робким, тихим мальчиком, – видно, слишком робким и слишком тихим, раз даже дружеская рука помощи не вызволила его из болота, а подтолкнула к петле.
– К черту! – повторил Мэтью, отказываясь слушать доводы рассудка.
Он не станет думать, будто своим вмешательством, как считает Джон Файв, утвердил Натана Спенсера в желании свести счеты с жизнью. Нет-нет, нельзя вставать на эту дорожку, а то как бы мысли о таких счетах не укоренились в душе.
Надо найти другую цель, получше этой. Мэтью сел на край кровати. Давно он уснул? Час назад, два? Спать больше не хотелось – даже после убийства Эбена Осли. Небо было черное, ни намека на рассвет. Можно бы спуститься и посмотреть время в лавке, однако внутреннее ощущение времени подсказывало, что еще нет и полуночи. Он встал и, шелестя полами длинной ночной сорочки, зажег вторую свечу – в помощь первой. Затем выглянул в окно, выходившее на Бродвей. Там было тихо и темно, лишь в нескольких окнах тоже горел свет. Погодите-ка, что это? Ветерок доносит едва слышные скрипки и смех. Как сказал лорд Корнбери, последний джентльмен еще не вывалился на улицу.
За ужином супруги Стокли (они тоже побывали на сегодняшнем собрании, но стояли в толпе у выхода) выразили Мэтью свое восхищение: его идеи касательно констеблей им понравились. Управа – штука нужная, сказал Хайрам, давно пора городским властям что-то придумать в этом отношении. Почему Лиллехорн сам не догадался?
Что же до внешнего вида лорда Корнбери, тут Хайрам и Пейшенс были настроены не так благодушно. Пускай он представляет интересы королевы, неужто нельзя для этого одеться по-мужски? Где это видано, сказала Пейшенс, чтобы на платье губернатора Нью-Йорка было больше рюшек и лент, чем на наряде Полли Блоссом?
Тем временем Сесилия продолжала тыкать в Мэтью своим пятачком, давая понять, что ее пророчеству только предстоит сбыться.
Он отвернулся от окна и окинул взглядом свою комнату. Она была не слишком большая, но и не крохотная – скромная мансарда, куда можно попасть только через люк в потолке лавки. Из обстановки – узкая койка, стул, сундук для одежды, прикроватный столик да еще один стол с умывальным тазом. Жарким летом тут можно было свариться живьем, а зимой лишь толстое одеяло спасало от обморожения, но Мэтью не жаловался. Зато чисто, опрятно и порядок во всем. Пусть его комнатушку можно измерить шестью шагами, это – самое его любимое место на свете, потому что здесь есть книжный шкаф.
О, книжный шкаф! Вот он, стоит рядышком с сундуком. Три полки лакированного темного дерева с инкрустацией в виде перламутровых ромбиков. На нижней полке выжжено имя и дата: «Rodrigo de Pallares, Octubre 1690». Шкаф прибыл в Нью-Йорк в прошлом мае на каперском судне и прямо на берегу был пущен с молотка вместе с остальными вещами, захваченными на испанских кораблях. Решив сделать себе подарок на день рожденья, Мэтью предложил за него неплохую цену, однако Корнелий Рамбоутс, корабельных дел мастер, тут же перебил его ставку, накинув сверху еще половину от этой цены. Каково же было удивление Мэтью, когда судья Пауэрс, тоже присутствовавший на торгах, сообщил ему, что Корни согласился продать «траченную червями деревяху, подобранную в гавани», за первоначальную цену, лишь бы не нюхать больше вонь махорки, которую курил испанский капитан.
Книги, стоявшие на этих трех полках, тоже были куплены на торгах. Одни изрядно пострадали от воды, другие лишились обложек или множества страниц, а третьи с честью перенесли невзгоды морского плаванья. И все до единой были в глазах Мэтью великими и чудесными достижениями человеческого ума. В изучении сих трудов ему очень помогло знание латыни и французского (испанский, кстати, тоже был почти освоен). В число излюбленных произведений Мэтью попали «Слово о гражданской власти» Джона Коттона, «Грозный глас Господень в городе Лондоне» Томаса Винсента, «Иной свет, или Государства и империи Луны» Сирано де Бержерака и «Гептамерон», собрание новелл королевы Маргариты Наваррской. Все эти книги вели с Мэтью задушевные беседы. Одни говорили тихо и вкрадчиво, другие сердито бранились, третьи путали безумие с праведностью, четвертые возводили препятствия и стены, а пятые рушили их, – словом, каждая книга обладала собственным голосом, а уж слушать его или нет, решал только Мэтью.
Он подумал было отвлечься чтением какого-нибудь увесистого трактата вроде «Кометографии, или Слова о кометах» Инкриза Мэзера, дабы изгнать кровожадных демонов из головы, однако на самом деле его беспокоил вовсе не сон об убийстве Эбена Осли. Мэтью вновь и вновь вспоминал похороны Натана Спенсера. Юношу положили в могилу ясным июньским утром: при свете дня отовсюду доносилось пение птиц, а ночью – скрипки и смех. Мэтью сидел у себя в комнате, в кромешном мраке, и гадал (совсем как сейчас и как другими ночами, задолго до той встречи с Джоном Файвом), не он ли убил Натана. Быть может, его непримиримое стремление к справедливости – нет, лучше уж сразу называть вещи своими именами: его упорное желание увидеть Эбена Осли на виселице – поспособствовало тому, чтобы Натан накинул петлю на шею. Мэтью полагал, что рано или поздно Натан не выдержит постоянного давленья и решится на единственно верный, мужественный поступок: даст показания судье Пауэрсу и главному прокурору Байнсу об ужасах, которым его подвергали в детстве, а позднее повторит рассказ в городском суде.
Ведь человек, жаждущий справедливости, не может поступить иначе?..
Мэтью смотрел в пламя ближайшей свечи.
Натан жаждал одного: чтобы его оставили в покое.
Я в самом деле его погубил.
Закончил дело, начатое мерзавцем Осли.
Мэтью с шумом втянул воздух, затем выдохнул. Пламя задрожало, и по стенам поползли странные тени.
И вот ведь забавно, подумал он. Нет, не забавно… прискорбно: тот же всепоглощающий огонь его души, та же неутомимая тяга к справедливости, что три года назад в Фаунт-Ройале спасла жизнь Рейчел Ховарт, сегодня, по всей видимости… вероятно… почти наверняка?.. подвела Натана Спенсера под петлю.
Стены начали давить на Мэтью. Он поджал плечи и ощутил несвойственное ему желание выпить для успокоения ума чего-нибудь крепкого, услышать пение скрипки и очутиться там, где все знают его по имени.
«Галоп» ведь еще открыт. Даже если мистер Садбери уже смахивает крошки со столов, Мэтью, верно, успеет опрокинуть кружечку темного стаута. Но медлить нельзя – надо поскорее одеваться и выходить, если эту ночь он хочет встретить в обществе друзей.
Через пять минут он уже спускался по лестнице в чистой белой сорочке, светло-коричневых бриджах и башмаках, начищенных еще с вечера. В лавке царил такой же порядок, как на чердаке, поскольку поддерживать там чистоту входило в обязанности Мэтью. На полках стояли миски, чашки, тарелки, подсвечники и прочая утварь; одни предметы дожидались покупателей, другие – дальнейшей обработки и украшения перед обжигом. Сам дом был сработан крепко; толстые деревянные столбы подпирали мансарду. На улицу выходила большая витрина, где для завлечения покупателей выставили лучшие творения гончара. Мэтью остановился на минуту, чтобы зажечь спичку и свечу в жестяном фонаре, висевшем на крючке рядом с дверью. Он твердо решил держаться сегодня подальше от «Слепца» и не следовать больше за Осли, однако свет, глядишь, поможет отпугнуть головорезов, которых директор запросто мог к нему подослать.
Шагая по Бродвею, Мэтью смотрел на серебристые блики лунного света на черной воде. «Галоп» находился на Краун-стрит, примерно в шести минутах быстрой ходьбы от гончарной лавки, – и, к счастью, на приличном расстоянии от сомнительных заведений вроде «Тернового куста», «Слепца» и «Петушиного хвоста». Нынче Мэтью было не до интриг и опасностей: голова еще гудела после недавней уличной стычки. Выпить кружку стаута, перекинуться с кем-нибудь парой слов – о лорде Корнбери, вестимо, не даст же народ пропасть такому поводу для сплетен! – а потом сразу домой, спать.
Он повернул на Краун-стрит рядом с ателье Аулзов. Вновь откуда-то донеслись скрипки и смех. Музыка и шум веселья звучали из-за освещенной фонарем двери трактира «Красная бочка» через дорогу. Оттуда, нестройно распевая во все горло (слов песни Мэтью не разобрал, однако ясно было, что она не из воскресного репертуара), вывалились двое. Следом выскочила худая черноволосая женщина с густо накрашенными глазами и окатила их бог знает чем из ведра, а потом хрипло выругалась, когда облитые ею безобразники зашлись в пьяном смехе. Один упал на колени в грязь, второй принялся отплясывать вокруг него джигу, а женщина стала громко звать констебля.
Мэтью опустил голову и быстро прошел мимо. Чего только не встретишь на улицах Нью-Йорка – и ночью и днем! Однако с наступленьем темноты город, казалось, норовил переплюнуть Лондон в самых низменных своих проявлениях.
Да и как иначе? В конце концов, Лондон у местных в крови. Пускай кое-где уж толкуют о ньюйоркцах – тех, кто здесь родился и вырос, – большинство местных обитателей еще не смыли лондонскую грязь с сапог и не вывели лондонскую сажу из легких. Их родина по-прежнему там, за океаном, откуда без конца прибывают, с намерением производить на свет ньюйоркцев, все новые лондонцы. Мэтью полагал, что когда-нибудь Нью-Йорк все же приобретет собственный характер (если выживет и удосужится стать подлинным городом), а покамест он – лишь очередное предприятие Британской империи, созданное лондонцами для нужд Лондона. Как же ему не перенять у образца все самое главное: темпы роста, дела и – увы – пороки? Именно поэтому Мэтью так беспокоила неорганизованность в рядах констеблей. Из газет он знал, что метрополия погрязла в преступности, и «старые чарли» не справляются с ежедневным потоком убийств, ограблений и прочих проявлений темной стороны человеческой души.
По мере того как в Нью-Йорке будет расти число доходных предприятий, из Старого Света на кораблях начнут прибывать опытные коммерсанты – волки, точащие зуб на новое стадо овец. Мэтью всей душой надеялся, что главный констебль Лиллехорн – или тот, кто займет его место, – будет наготове.
До «Галопа» оставался всего один квартал, только перейти Смит-стрит. Из подворотни выскочил черный кот с белыми лапами и понесся за добычей, – кажется, то была крупная крыса. Сердце Мэтью от испуга заколотилось где-то в горле.
И вдруг справа, на Смит-стрит, раздался сдавленный крик:
– Убили!
А потом закричали опять, уже громче и отчаянней:
– На помощь! Его убили!
Мэтью замер и поднял фонарь – сердце по-прежнему неистово билось в горле. К нему кто-то бежал, вернее, плелся и спотыкался, изо всех сил пытаясь двигаться по прямой. Мэтью стоило огромного труда сдержать два одновременно обуревающих его порыва: обмочить бриджи и швырнуть в бегущего фонарь.
– Убили! Убили! – кричал юноша.
Наконец он заметил Мэтью и умоляюще простер перед собой руки, едва не грянувшись при этом наземь. Лицо у него было белое как простыня, а темно-рыжие волосы торчали во все стороны.
– Кто это?
– А вы кто?..
Тут свет фонарей – уличного и того, что Мэтью держал в руке, – осветил лицо юноши. Оказалось, это Филип Кови, тоже из приютских.
– Филип, это я, Мэтью Корбетт! Что стряслось?
– Мэтью! Мэтью! Там… человека убили! По-порезали всего!
Кови так в него вцепился, что они оба чуть не шлепнулись в грязь, а Мэтью потом едва не свалился от запаха перегара. Глаза у Кови были налиты кровью, под ними лежали темные круги; судя по всему, от увиденного у бедняги хлынуло из носа: по губам и подбородку тянулись поблескивающие на свету нити слизи.
– Там труп, Мэтью! По-помилуй боже, весь изрезанный!
Кови, некрупный юноша на три года младше Мэтью, был так пьян, что еле стоял на ногах – пришлось схватить его за талию. Однако он все равно трясся и шатался, а потом начал рыдать, и колени у него подогнулись.
– Господи! Господи, я ж чуть на него не наступил!
– На кого? Кто там, Филип?
Кови смотрел на него невидящими глазами, слезы струились по щекам, рот кривился.
– Не-не знаю… – заплетающимся языком ответил он. – Порезали его всего! Вон там лежит!
– Там? Это где?
– Вон там. – Кови махнул в конец Смит-стрит, и тут Мэтью увидел свежую кровь на обеих его руках, а заодно красные пятна и отвратительные черные сгустки на собственной белой сорочке.
– Господи! – вскричал Мэтью, отшатываясь.
Ноги у Кови подогнулись, и он упал на мостовую, давясь и что-то бормоча. Почти сразу его начало выворачивать наизнанку.
– Что такое? Что за шум?
Со стороны «Рыси да галопа» к ним приближались два фонаря. Через несколько секунд Мэтью различил силуэты четырех человек.
– Сюда! – заорал Мэтью и тут же сообразил, как глупо и бессмысленно это прозвучало, люди ведь и так сюда шли. Для ясности он решил добавить: – Я здесь! – что было уж совсем ни к чему, ибо в тот же миг свет фонарей упал на него, последовали охи, ахи и полная сумятица: от вида окровавленной рубашки Мэтью прибывшие начали врезаться друг в друга, точно быки, которых охаживали палками.
– Мэтью? Да ты весь в крови! – Феликс Садбери посветил фонарем на Кови. – Это его рук дело?..
– Нет-нет, сэр, он…
– Констебль! Констебль! – заголосил стоявший за спиной Садбери человек. Его пронзительным голосом впору было вышибать двери и оконные ставни.
Мэтью отвернулся и, торопясь скрыться от этого надсадного вопля, поспешил мимо Филипа Кови по Смит-стрит. Он поднял фонарь повыше и ждал, что вот-вот наткнется на израненного бедолагу, однако на земле никого не было. В окнах начали зажигаться свечи, из домов выходили люди. Исступленно лаяли собаки. Где-то слева заревел осел – вероятно, в ответ на крик джентльмена с луженой глоткой, который приставил ладони ко рту и заорал: «Консте-е-ебль!» – крик сей, несомненно, переполошил даже огненнокрылых обитателей Марса.
Мэтью упорно шел на юг. Феликс Садбери все звал его по имени, но ответа не получал. Через некоторое время Мэтью увидел человека в черном, стоявшего на коленях под полосатым навесом давно закрытой на ночь аптеки. Тот обратил к нему мрачное лицо:
– Поднесите-ка сюда свет.
Мэтью повиновался, хотя и не горел желанием этого делать. Наконец его взору предстала картина целиком: двое стояли на коленях над трупом, растянувшимся на спине. На утоптанной английской земле поблескивала черная лужа крови. Человек, просивший поднести свет, – не кто иной, как преподобный Уильям Уэйд, – взял у Мэтью фонарь, чтобы посветить своему спутнику.
Спутник его – престарелый доктор Артемис Вандерброкен – тоже держал лампу, которую Мэтью сразу не увидел, поскольку священник загораживал собой ее свет. На земле рядом с врачом стоял раскрытый саквояж, а сам Вандерброкен склонился над убитым и разглядывал его горло.
– Вот это его порезали! – услышал Мэтью его слова. – Еще чуть-чуть – и пришлось бы хоронить голову отдельно от тела.
– Кто это? – спросил Мэтью, против собственной воли наклоняясь поближе. В нос ударил медный, тошнотворный запах крови.
– Сложно сказать, – ответил преподобный Уэйд. – Артемис, вы его узнаете?
– Нет, лицо слишком отекло. Давайте заглянем в карманы сюртука.
Тут к месту преступления подоспели Садбери и остальные, а с ними еще несколько человек. Вперед пробрался какой-то пьяница с изрытым оспинами и багровым от эля лицом. Алкогольные испарения висели вокруг него зловонным туманом.
– Да энто ж мой брат! – внезапно завопил он. – Исусе, брат мой, Дейви Мантанк!
– Это Дейви Мантанк! – проорал господин с луженой глоткой, вставши позади Мэтью (у последнего при этом едва не отвалились уши). – Дейви Мантанка убили!
Тут еще чья-то багровая физиономия пробилась сквозь толпу – причем где-то на уровне коленей.
– Это кто ж меня убил, мать вашу?..
– Попрошу не сквернословить! – осадил его Уэйд. – Так, все расступитесь. Мэтью, вы ведь порядочный человек?
– Да, сэр.
– Тогда подержите. – Священник протянул ему темно-синий бархатный кошелек, обмотанный кожаным шнуром и туго набитый монетами, а после – золотые карманные часы. – На них кровь, осторожнее. – Тут он впервые обратил внимание на окровавленную рубашку Мэтью. – Что с вами случилось?
– Да я…
– Вот! Уильям, глянь-ка! – Вандерброкен поднял фонарь и показал священнику что-то, чего Мэтью не видел. – Узор, – отметил врач. – Убийца вооружен не только острым клинком, но и извращенным остроумием.
– Нам придется его оставить, – донеслись слова Уэйда. – Он точно мертв?
– Увы, да, пределы нашего мира он покинул.
– Так кто это? – не унимался Мэтью.
Его толкали и пихали со всех сторон: вокруг тела уже образовалась изрядная толпа. Если я хоть сколько-нибудь смыслю в повадках толпы, подумал Мэтью, еще чуть-чуть – и булочник подтащит сюда свою тележку, сбегутся торгаши-разносчики, уличные девки начнут обольщать клиентов, а карманники – обчищать зевак.
Преподобный Уэйд и врач встали. Тут Мэтью приметил под серым плащом доктора Вандерброкена краешек светло-голубой ночной сорочки.
– Вот. – Уэйд вернул Мэтью фонарь. – Посмотрите сами и скажите.
Священник отошел в сторонку. Мэтью сделал шаг вперед и поднес свет к лицу убитого.
То было даже не лицо, а красная, распухшая маска ужаса. Кровь обильно текла изо рта и ноздрей, но самая страшная рана зияла на горле, под отвисшим подбородком. Темная, поблескивающая на свету плоть и желтые жилы виднелись в этой дыре, похожей на странную и жуткую улыбку. Белый льняной галстух совершенно почернел от крови. Жирные зеленые мухи уже облепили рану и ползали по губам и ноздрям убитого, не обращая внимания на людские крики и волнения. Как ни взбудоражен был Мэтью представшим ему безобразным зрелищем, он сознавал, что от его внимания не уходят всевозможные мелкие подробности: окоченевшая правая рука покоилась на животе, пальцы растопырены в стороны – жест потрясения и даже в каком-то роде смирения; густые волосы стального цвета всклокочены; дорогие, ладно скроенные, в черную тонкую полоску сюртук и жилет; лакированные черные туфли с серебряными пряжками; черная треуголка валялась чуть поодаль – и по ней уже топтались, проталкиваясь вперед взволнованно, почти остервенело, зеваки.
Лицо жертвы действительно отекло до неузнаваемости и было искажено предсмертными судорогами, от которых нижняя челюсть будто сошла с места и выдвинулась вперед, обнажив поблескивающие в тусклом свете нижние зубы. Глаза казались тонкими щелками на плоти, испещренной темными пятнами. Мэтью подался вперед, насколько осмелился – слишком много вокруг было крови и мух, – и разглядел отчетливые порезы над бровями и под глазницами.
– Господи, какой ужас! – воскликнул Феликс Садбери, вставая рядом с Мэтью. – Вы его узнали? Кто это может быть? Вернее – мог?..
– Расступись! Дорогу констеблю! – раздался хриплый крик, прежде чем Мэтью успел ответить. Кто-то пытался пройти сквозь толпу, которая и не думала расступаться.
– Убили! Ох, боже мой, убили! – кричала женщина. – Моего мальчика, моего Дейви убили!
Не успел констебль продраться сквозь этот бедлам, как к убитому, расталкивая зевак точно кегли, подлетела грозная туша мамаши Мантанк весом в двести сорок фунтов. Сия матрона (жена морского капитана, державшая трактир «Синяя пчела» рядом с Ганновер-Сквер) являла собой грозное зрелище даже в добром расположении духа, а нынче вечером вид ее был так ужасен – лохматая грива седых волос, огромный нос, своими размерами и формой подобный тесаку мясника, и глаза черные, как лондонские тайны, – что даже пьяные братья Мантанк заблеяли по-овечьи.
– Ма-а! Ма-а! Дейви жив, ма-а! – крикнул Дарвин, но шум вокруг стоял такой, что пальни под ухом мамаши Мантанк пушка, она и то не услышала бы.
– Я жив, ма! – вопил Дейви, все еще стоя на коленях.
– Ах ты, поганец, да я с тебя шкуру спущу! – Грозная матрона наклонилась, схватила Дейви одной громадной, покрытой струпьями рукой и рывком поставила его на ноги. – Буду пороть, покудова ты у меня ртом не запердишь, а задом не запросишь пощады! – Она взяла его за волосы и под крики боли поволокла из огня да в полымя.
– Да пустите же констебля, черт подери!
Констебль наконец продрался сквозь толпу, и Мэтью узнал в нем невысокого коренастого грубияна – Диппена Нэка. Он держал перед собой фонарь и помахивал черной дубинкой. Бросив один-единственный взгляд на труп, он выпятил грудь-бочку, вытаращил свиные глазки, побагровел испитой рожей и зайцем припустил прочь.
Мэтью понял: если сейчас же не найти управу на толпу, она сровняет место преступления с землей. Одни зеваки – как видно, те, кого оторвали от последней кружки эля в трактире, – набравшись храбрости, подходили поближе и ненароком наступали прямо на тело, когда их толкали напирающие сзади любопытные. Откуда ни возьмись за спиной Мэтью возник Ефрем Аулз в длинной белой ночной сорочке, с огромными выпученными глазами за стеклами очков.
– Все прочь! – предостерег он толпу. – Живо, все назад!
Уже собираясь отойти вместе с остальными, Мэтью увидел, как от толпы отделилась нога какого-то шатающегося гуляки и наступила прямо на голову убитого, а следом и сам гуляка рухнул прямо на труп.
– А ну прочь! – заорал Мэтью. Щеки его горели от ярости. – Все назад! Быстро! Цирк тут устроили!
Зазвонил колокольчик – решительный и ровный металлический звон насквозь пронзил хаос. Мэтью увидел, что кто-то движется сквозь толпу, раздвигая людские волны. От звона колокольчика люди немного приходили в себя и расступались. Наконец возник главный констебль Лиллехорн с небольшим медным колокольчиком в одной руке и фонарем в другой. Он упорно звонил, покуда оглушительный гвалт не превратился в тихое бормотание.
– Отойдите! – скомандовал он. – Все назад, не то будете ночевать за решеткой!
– Да мы просто хотели глянуть, кого убили! – возмутилась какая-то женщина из толпы, и остальные ее поддержали.
– В таком случае предлагаю самым любопытным отнести труп в покойницкую. Что, желающих нет?
Тут уж, конечно, все накрепко закрыли рты. Покойницкая помещалась в подвале городской ратуши; то были владения Эштона Маккаггерса, куда простые смертные старались без нужды не соваться (когда нужда все-таки возникала, им было уже все равно).
– Расходимся, расходимся! Займитесь своими делами! – вещал Лиллехорн. – Хватит валять дурака! – Он взглянул на труп, а потом – прямо на Мэтью. Увидев его окровавленную рубашку, он вытаращил глаза. – Ты что же натворил, Корбетт?!.
– Ничего! Филип Кови нашел тело, побежал, наткнулся на меня и… вот, перепачкал мне сорочку кровью.
– Может, труп тоже он ограбил – или все-таки ты сам потрудился?
Мэтью осознал, что до сих пор держит в руках часы и кошелек.
– Нет, сэр. Эти вещи мне вручил преподобный Уэйд.
– Преподобный Уэйд? Где же он?
– Да вот… – Мэтью принялся взглядом искать в толпе священника и врача, но они как сквозь землю провалились. – Только что был здесь. И еще доктор…
– Хватит болтать. Кто это?.. – Лиллехорн посветил фонарем на убитого. Надо отдать ему должное – выражение лица у него при этом осталось совершенно невозмутимым.
– Не знаю, сэр, но…
Мэтью большим пальцем приоткрыл часы, однако вопреки его ожиданиям монограммы внутри не оказалось. Стрелки замерли на семнадцати минутах одиннадцатого – в это время у них либо закончился завод либо механизм повредился от удара тела о землю. В любом случае часы были дорогие и говорили о состоятельности хозяина. Мэтью повернулся к Ефрему:
– Твой отец здесь?
– Да, вон он. Отец! – кликнул Ефрем, и старший Аулз, тоже в круглых очках и совершенно седой, каковым вскоре мог стать и его сын, вышел из толпы.
– Что это вы раскомандовались, Корбетт? – возмутился Лиллехорн. – Для вас у меня тоже найдется местечко за решеткой, не сомневайтесь.
Мэтью предпочел оставить его слова без внимания.
– Сэр, – обратился он к Бенджамину Аулзу. – Будьте так любезны, осмотрите сюртук жертвы и скажите, кто его пошил?
– Сюртук-то? – Аулз с отвращением покосился на труп, а затем, набравшись храбрости, кивнул. – Что ж, я осмотрю. А вот узнаю ли портного…
По тому, как сюртук скроен и сшит, можно определить его создателя, рассудил Мэтью. В Нью-Йорке всего три профессиональных портных и несколько любителей, занимающихся пошивом одежды; Аулзу наверняка не составит труда установить личность мастера – если только сюртук не приехал прямиком из Англии.
Аулз нагнулся, осмотрел подкладку и тут же заявил:
– Ну да, все понятно! Знаю эту легкую материю, ее в начале лета завезли. Я сам этот сюртук и сшил. Этот и еще один точно такой.
– Для кого вы их сшили?
– Для Пеннфорда и Роберта Девериков, вестимо. У этого сюртука есть карман для часов. – Он встал. – Стало быть, это сюртук мистера Деверика.
– Убили Пенна Деверика! – крикнул кто-то в темноту.
И вот уже весть о жестоком убийстве полетела по улице быстрее, чем ее разнесла бы даже «Газетт»:
– Пенн Деверик помер!
– Пенна Деверика убили!
– Старый Деверик там лежит, упокой Господь его душу!
– Господь-то упокоит, а заберет – дьявол! – прокричал какой-то бессердечный. Впрочем, с ним согласились бы многие.
Мэтью молчал. Пусть главный констебль сам обнаружит то, что он уже заметил, – порезы вокруг глаз Деверика.
Такие раны упоминал Мармадьюк Григсби в статье про убийство доктора Джулиуса Годвина.
У доктора Годвина также обнаружились вокруг глаз порезы, имевшие, по профессиональному мнению мистера Эштона Маккаггерса, форму маски.
Лиллехорн, стараясь не испачкать сапоги кровью, склонился над телом. Мэтью наблюдал. Констебль помахал рукой, отгоняя мух. Еще мгновенье – и он, конечно, сообразит…
Наконец голова Лиллехорна дернулась – будто ему ударили кулаком в грудь.
Он вслед за Мэтью догадался, что на счет Масочника пора записывать еще одно убийство.