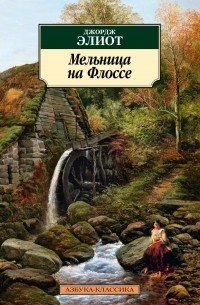Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
Глава седьмая. Прибытие родственников
Представители семейства Додсонов отличались определенной привлекательностью, и сестрица Глегг, во всяком случае, не была самой некрасивой из сестер. Когда она уселась в мягкое кресло миссис Талливер, любой беспристрастный наблюдатель не стал бы отрицать, что для женщины пятидесяти лет она обладала очень даже симпатичной внешностью и фигурой, хотя Том с Мэгги полагали свою тетку Глегг истинным воплощением уродства. Да, она действительно пренебрегала преимуществами красивой одежды, и хотя, по ее собственным словам, ни у одной другой женщины не было нарядов красивее, чем у нее, она не надевала новое платье, не сносив до дыр старое. Другие представительницы слабого пола, если таково было их желание, могли регулярно отдавать в стирку свое кружево ручной работы, но когда миссис Глегг покинет этот лучший из миров, то обнаружится, что самое изысканное кружево она приберегала в правом ящике платяного шкафа в Споттед-Чембер, причем такое, какого мисс Вулл из Сент-Оггза не могла позволить себе ни разу в жизни, хотя последняя и носила свои кружева еще до того, как за них было заплачено. То же самое относилось и к ее накладным локонам: вне всякого сомнения, самые блестящие и туго завитые парики миссис Глегг хранила в выдвижных ящиках наравне с растрепанными и поношенными, но в будний день взирать на мир из-под блестящей и туго завитой накладки для волос означало для нее невероятное и неприятное смешение святого и грешного. Впрочем, иногда миссис Глегг все-таки надевала один из своих третьесортных париков для визитов в обычные дни, но только не в дом сестры; особенно если означенной сестрой была миссис Талливер, которая с самого своего замужества уязвляла чувства старшей родственницы тем, что предпочитала собственные волосы, хотя, как заметила миссис Глегг в разговоре с миссис Дин, многодетной матери, подобной Бесси, имеющей мужа, постоянно вовлеченного в судебные процессы, следовало бы вести себя умнее. Но ведь Бесси всегда отличалась слабостью характера!
Поэтому, если сегодня парик миссис Глегг имел вид потрепанный и взлохмаченный более обыкновенного, то тому имелась веская причина: таким образом она стремилась недвусмысленно намекнуть миссис Талливер на недопустимость ношения туго завитых светлых кудряшек, отделенных друг от друга гладкой волной по обе стороны от пробора. Миссис Талливер уже несколько раз даже всплакнула из-за резкости и бессердечия сестрицы Глегг, вызванных, по мнению той, этими самыми кудряшками, крайне неподобающими замужней женщине, но осознание того, что с ними она выглядит симпатичнее, помогло ей выдержать натиск.
Сегодня миссис Глегг предпочла надеть шляпку – цельную и сидящую чуточку набекрень, разумеется, – практика, к которой она частенько прибегала, нанося визиты и пребывая в воинственном расположении духа: она не знала, какие сквозняки могут поджидать ее в чужом доме. По той же самой причине она предпочла надеть и небольшую горжетку из соболей, едва прикрывающую ей плечи и трагически не сходящуюся на мощной груди, в то время как ее длинную шею защищала chevaux-de-frise из самых разнообразных оборок. Надо было разбираться в фасонах и покроях тогдашнего времени, чтобы понимать, насколько отстало от них синевато-серое атласное платье миссис Глегг; впрочем, судя по созвездию мелких желтых пятен, украшающих его, и стойкому затхлому запаху плесени, намекающему на отсыревший сундук, это означало, что оно принадлежало к той достаточно древней категории нарядов, которые вновь начали входить в моду.
Миссис Глегг, обмотав вокруг пальцев многозвенную цепочку своих золотых часов, заметила миссис Талливер, которая только что вернулась после визита на кухню, что на ее хронометре уже половина первого, что бы там ни показывали часы и прочие механизмы всех остальных присутствующих.
– Не знаю, что стряслось с сестрицей Пуллет, – продолжала она. – В нашей семье было заведено всем прибывать вместе, – во всяком случае, так было во времена моего бедного отца, – а не сидеть одной сестре полчаса в ожидании, пока изволит прибыть вторая. Но если семейные традиции меняются, то в этом нет моей вины. Я никогда не войду в дом, если из него выходят остальные. Удивляюсь я и сестрице Дин – в этом отношении она придерживалась сходных с моими взглядов. Но если хочешь знать мое мнение, Бесси, то советую тебе поторопиться с обедом, а не откладывать его, поскольку те, кто опоздает, сами в этом виноваты.
– Дорогая, не стоит так волноваться, они непременно прибудут вовремя, – отозвалась миссис Талливер с некоторым раздражением. – Обед будет готов не раньше половины второго. Но если для тебя это слишком долго, могу принести тебе творожную ватрушку и бокал вина.
– Так-так, Бесси! – сказала миссис Глегг с горькой улыбкой, едва заметно покачивая головой. – Я-то думала, что ты лучше знаешь свою сестру. Я никогда не ем в перерыве между приемами пищи и начинать не собираюсь. Но это вовсе не значит, что меня не раздражает твоя манера подавать обед в половине второго, когда он должен быть готов уже в час. Тебя ведь воспитывали не в таких правилах, Бесси.
– Господи ты боже мой, что я-то могу поделать? Мистер Талливер не любит обедать раньше двух часов, я и так передвинула его на полчаса раньше из-за вас.
– Да-да, я знаю, каково это бывает с мужьями – они вечно все откладывают; сначала обед, пока не настанет время пить чай, особенно если у них имеются слабохарактерные жены, которые спускают им с рук подобные выходки; очень жаль, Бесси, что и у тебя недостало силы воли. Было бы недурно, если бы твои дети не пострадали из-за этого. А еще я надеюсь, что ты не стала лезть из кожи вон и не закатишь пир на весь мир – и не пустишься в ненужные расходы из-за своих сестер, потому что я предпочту угоститься корочкой хлеба, а не разорить тебя своим аппетитом. Удивительно даже, что ты не последовала примеру своей сестры Дин, уж у нее-то здравого смысла побольше твоего. А ведь у тебя двое детей, которых еще надо вырастить, а твой муженек уже извел твое приданое на судебные тяжбы, а теперь, скорее всего, та же участь ожидает и его состояние. Вареная куриная ножка, а бульон после нее оставишь на кухне, – добавила миссис Глегг таким тоном, словно давила протест сестры в зародыше, – и обыкновенный пудинг с ложечкой сахара, без всяких специй, будут в самый раз.
Да уж, учитывая расположение духа, в котором пребывала сестрица Глегг, денек обещал выдаться веселым. Миссис Талливер и так-то не отваживалась спорить с ней, совсем как та утка, про которую можно сказать, будто она с осуждением выставляет из воды лапку, чтобы пригрозить мальчишке, который бросается в нее камнями. Но обед вечно оставался для нее камнем преткновения, причем уже не в первый раз, так что миссис Талливер дала тот же ответ, что и раньше.
– Мистер Талливер говорит, что он с радостью угостит своих друзей хорошим обедом, если тот окажется ему по карману, – сказала она. – А уж в собственном доме он имеет полное право поступать так, как ему вздумается, сестрица.
– Видишь ли, Бесси, я не смогу оставить твоим детям такую сумму, которая уберегла бы их от нищеты. И на деньги мистера Глегга тоже можешь не рассчитывать, потому что будет уже хорошо, если я не умру первой, – у него вся семья ходит в долгожителях. Так вот, если он скончается и оставит мне достаточное обеспечение, то все остальное обложит такими условиями, что деньги вернутся к его родственникам.
Но тут разглагольствования миссис Глегг прервал стук колес, к великой радости миссис Талливер, которая поспешила выбежать во двор, дабы должным образом встретить сестрицу Пуллет; это наверняка была она, потому что, судя по звуку, повозка была четырехколесной.
Миссис Глегг тряхнула головой и недовольно скривилась при мысли о «четырехколесной повозке». У нее и на этот счет имелось весьма определенное мнение.
Сестрица Пуллет была вся в слезах, когда одноконный экипаж остановился перед дверью миссис Талливер, и было совершенно очевидно, что она намерена пролить их еще немало, прежде чем выйти из него; потому что, хотя ее супруг и миссис Талливер уже стояли рядом, готовясь поддержать ее, она продолжала сидеть неподвижно и печально покачивать головой, сквозь слезы глядя вдаль невидящим взором.
– Что случилось, дорогая сестрица? – осведомилась миссис Талливер. Чрезмерно развитым воображением она не страдала, но ей пришло в голову, что большое зеркало на туалетном столике в лучшей спальне сестрицы Пуллет могло разбиться во второй раз.
Вместо ответа миссис Пуллет лишь в очередной раз покачала головой, медленно поднимаясь на ноги и сходя на землю, успев при этом метнуть внимательный взгляд на мистера Пуллета, дабы убедиться в том, что он готов уберечь ее симпатичное атласное платье от беды. Мистер Пуллет был мужчиной невысокого роста, с курносым носом, маленькими озорными глазками и тонкими губами. Сегодня он обрядился в костюм черного цвета с белым шейным платком, узел на котором был завязан настолько туго, что предполагал наличие неких принципов, а не просто из личного удобства. Рядом со своей высокой красавицей-женой в платье с пышными рукавами, в просторной накидке и большой шляпке с двумя перьями и несколькими лентами он выглядел столь же уместно, как и маленький рыболовный баркас на фоне брига с поднятыми парусами.
Вид модно одетой женщины, снедаемой скорбью, – это одновременно трогательное зрелище и разительный пример того, как обострила наши чувства цивилизация. Какой длинный путь лежит от убитой горем готтентотки до женщины с широкими манжетами, с несколькими браслетами на каждой руке, в шляпке, являющей собой настоящее архитектурное сооружение с тонкими завязками! Утонченное дитя цивилизации выказывает свою скорбь самым деликатным образом, представляя любопытную загадку для аналитического склада ума. Если бы она рискнула слепо войти в дверь с разбитым сердцем и глазами, полными слез, ничего не видя перед собой, то запросто могла бы порвать или измять пышные рукава своего облачения, но глубокое осознание подобной возможности приводит в действие такие силы, что она вполне безопасно разминается с притолокой. Отдавая себе отчет в том, что слезы ручьем текут у нее по щекам, она отшпиливает ленты и томным жестом отбрасывает их назад, даже в минуту величайшего уныния трогательно надеясь, что, когда слезы высохнут, ленты вновь обретут былую привлекательность. Когда рыдания ее становятся тише, она откидывает голову под таким углом, чтобы не испортить шляпку, переживая тот ужасный момент, когда скорбь, превратившая все остальное в утомительную скуку, начинает притупляться сама; она меланхолично смотрит на свои браслеты и поправляет их застежки с той деланной небрежностью, которая непременно доставит ей удовольствие, как только она вновь придет в спокойное и удовлетворенное расположение духа.
Миссис Пуллет с большим изяществом протискивается внутрь, едва не задевая дверной косяк (в эту пору считалось, что женщина выглядит нелепо, если ширина ее плеч не достигает полутора ярдов), после чего напрягает свои лицевые мышцы в новом потоке слез и наконец вплывает в гостиную, где расположилась в кресле миссис Глегг.
– Сестрица, ты опоздала. Что еще стряслось? – полюбопытствовала та, причем довольно резко, когда они обменялись рукопожатием.
Миссис Пуллет присела, с большим тщанием расправив полы накидки, прежде чем ответить:
– Ее больше нет. – Она неосознанно использовала риторическую фигуру речи.
«Значит, на этот раз речь идет не о зеркале», – подумала миссис Талливер.
– Умерла третьего дня, – продолжала миссис Пуллет. – И ноги у нее распухли, как бочки, – с невыразимой горечью добавила она после недолгой паузы. – Ей сделали множество проколов, но вода все не уходила. Говорят, ее было столько, что в ней запросто можно было утонуть.
– Что ж, Софи, в таком случае ей повезло, кем бы она ни была, – заявила миссис Глегг с несомненной сметливостью, свойственной людям, наделенным практическим складом ума и решительностью. – Но что-то я никак не могу взять в толк, о ком ты говоришь.
– Довольно того, что это знаю я, – со вздохом возразила миссис Пуллет, качая головой. – Второй такой водянки еще не случалось во всем приходе. Я говорю о старой миссис Саттон из Туэнтилендза.
– Ну и что? Насколько я слышала, она не твоя родственница или хотя бы добрая знакомая, – заявила в ответ миссис Глегг, не скупившаяся проливать слезы в случае кончины кого-либо из родичей, но крайне воздержанная во всех иных обстоятельствах.
– Она – старая знакомая, потому что я видела, как ноги у нее раздулись, словно пузыри. А еще она – старушка, которая умела копить деньги и до последнего сама распоряжалась ими, а мешочек с ключами всегда хранила у себя под подушкой. Сомневаюсь, что в общине найдется еще хоть одна такая же пожилая леди, какой была она.
– Зато про нее говорят, будто она приняла столько снадобий, что хватит на целый фургон и маленькую тележку, – ввернул мистер Пуллет.
– Увы! – вздохнула миссис Пуллет. – До водянки она много лет страдала другим недугом, но доктора так и не смогли понять, в чем он заключается. А на прошлое Рождество, когда я пришла навестить ее, она сказала мне: «Миссис Пуллет, если с вами когда-либо приключится водянка, вспомните обо мне». Она и вправду так сказала, – добавила миссис Пуллет, вновь заливаясь горючими слезами, – это были ее собственные слова. Похороны состоятся в субботу, и Пуллеты должны будут на них присутствовать.
– Софи, – начала миссис Глегг, не в силах более сдерживаться, – Софи, я не перестаю удивляться тебе. Ты буквально рвешь на себе волосы, причем из-за того, кто не имеет к тебе никакого отношения. Твой бедный отец никогда не вел себя так, как и тетя Фрэнсис, да и остальные члены нашей семьи, о которых я когда-либо слыхала. Даже если наш кузен Эббот внезапно скончался бы, не оставив завещания, ты и то не переживала бы так сильно.
Миссис Пуллет умокла, вынужденная перестать плакать. Впрочем, упреки в чрезмерной слезливости скорее польстили ей, нежели привели в негодование. В конце концов, далеко не всякий станет так убиваться из-за соседей, которые не оставили вам ничего; но ведь миссис Пуллет вышла замуж за джентльмена, занимающегося сельским хозяйством, и потому располагала достаточным временем и деньгами, чтобы поднять свое умение плакать по поводу и без него и все прочее на высшую ступень респектабельности.
– Но миссис Саттон все-таки выразила свою последнюю волю, – вновь вмешался в разговор мистер Пуллет, испытывая смутные сомнения в том, что его слова подтверждают законность слез супруги. – Наш приход – совсем не бедный, но говорят, что никто более не оставит после себя несколько тысяч фунтов, как это сделала миссис Саттон. А вот долго думать над завещанием она не стала – отказала все в пользу племянника своего супруга.
– Следовательно, от больших денег нет никакого толку, – заявила миссис Глегг, – если у нее не осталось никого, кроме родственников со стороны мужа, чтобы разделить их между ними. И ради этого стоило отказывать себе во всем? Не то чтобы я хотела умереть, оставив под процентами больше денег, чем полагали досужие соседи. Но это никуда не годится, когда средства уходят из семьи.
– Нисколько не сомневаюсь, сестрица, – сказала миссис Пуллет, которая пришла в себя настолько, что уже сняла вуаль и аккуратно сложила ее, – что миссис Саттон оставила все свои деньги достойному человеку, поскольку он страдает одышкой, а спать каждый вечер ложится в восемь часов. Он сам говорил мне об этом – причем без малейшего стеснения, – когда однажды заглянул в нашу церковь в воскресенье. Он носит на груди заячью шкурку и разговаривает прерывающимся голосом – словом, настоящий джентльмен. Я ответила ему, что немного в году найдется месяцев, когда меня не пользовали бы доктора. И он мне ответил: «Миссис Пуллет, как я вас понимаю!» Именно так и сказал – это были его собственные слова. Ах! – вздохнула миссис Пуллет, качая головой при мысли о том, сколь немногие способны понять ее мучения с розовой микстурой и белой микстурой, сильным снадобьем в маленьких бутылочках и слабым снадобьем в больших бутылочках, пилюлями по шиллингу и настойками по восемнадцать пенсов. – Сестрица, пожалуй, теперь я могу снять шляпку. Вы не заметили, выгрузили ли уже шляпную коробку? – добавила она, обращаясь к мужу.
Мистер Пуллет, благодаря какому-то необъяснимому провалу в памяти совсем забывший об этом, поспешно выскочил наружу, снедаемый угрызениями совести, дабы исправить столь непростительное упущение.
– Ее принесут наверх, сестрица, – сказала миссис Талливер, страстно желая подняться туда немедленно, пока миссис Глегг не успела выразить свое отношение к тому, что Софи стала первой из Додсонов, кто угробил свое здоровье лечебными снадобьями.
Миссис Талливер любила подняться наверх вместе со своей сестрицей Пуллет, внимательно рассмотреть ее головной убор, прежде чем самой примерить его, и обсудить фасоны женских шляпок в целом. В этом и заключалась очередная слабость Бесси, пробуждавшая в миссис Глегг сестринское сострадание: Бесси предпочитала одеваться чересчур уж изысканно, учитывая финансовое состояние ее супруга; а еще она была слишком горда, чтобы наряжать свое дитя в те вполне приличные еще вещи, которые сестрица Глегг извлекала из доисторических глубин своего платяного шкафа; нет, право слово, стыд и срам – покупать этому несносному ребенку что-либо еще, помимо пары туфелек.
Следует признать, что в этом вопросе миссис Глегг была несправедлива к сестрице Бесси, поскольку миссис Талливер прикладывала недюжинные усилия к тому, чтобы заставить Мэгги носить шляпку из итальянской соломки и платьице из крашеного атласа, перешитое из нарядов тетки Глегг, но в результате миссис Талливер пришлось похоронить обновки в своем материнском сердце. Хитрюга Мэгги, заявив во всеуслышание, что платье дурно пахнет гадкой краской, умудрилась перепачкать его соусом к ростбифу в первое же воскресенье, когда надела его, после чего, обнаружив, что добилась своего, облила шляпку с зелеными лентами водой, дабы придать ей сходство с зеленым сыром с ароматом шалфея, поданного с увядшим салатом-латуком. В оправдание Мэгги следует заметить, что Том смеялся над ней, когда она надевала эту злосчастную шляпку, обзывая ее старухой Джуди. Тетя Пуллет, кстати, тоже дарила одежду, но та оказывалась достаточно красивой, чтобы прийтись по душе и Мэгги, и ее матери. Из всех своих сестер миссис Талливер отдавала несомненное предпочтение сестрице Пуллет, на что та отвечала ей взаимностью; но миссис Пуллет было жаль Бесси, поскольку дети у той были непослушными и неуклюжими; она старалась вести себя с ними как можно ласковее, но в душе сожалела о том, что они не такие послушные и симпатичные, как ребенок сестрицы Дин. Мэгги и Том, со своей стороны, относились к тетке Пуллет вполне терпимо, главным образом потому, что она нисколько не походила на их вторую тетку Глегг. Вдобавок Том неизменно отказывался навещать кого-либо из них во время своих каникул более одного раза кряду. Оба его дяди, разумеется, успевали подкинуть ему по паре монеток, но поскольку в погребе у тетки Пуллет обитали жабы, в которых можно было кидаться камнями, Том предпочитал наносить визиты именно ей. Мэгги же от одного вида лягушек бросало в дрожь, после чего они являлись к ней в кошмарах, зато ей очень нравилась музыкальная табакерка дядюшки Пуллета.
Тем не менее сестры сошлись на том – правда, за спиной миссис Талливер, – что кровь Талливеров не ужилась с кровью Додсонов, что дети бедной Бесси, увы, оказались чистокровными Талливерами и что Том, несмотря на внешность вылитого Додсона, вырастет таким же своевольным, как и его отец. Что же касается Мэгги, то она точная копия своей тетки Мосс, сестры мистера Талливера, ширококостной особы, вышедшей замуж настолько неудачно, насколько это вообще возможно: у нее даже не имелось в наличии фарфора, зато был муж, с большим трудом плативший ренту. Но когда миссис Пуллет осталась наверху в обществе одной лишь миссис Талливер, разговор зашел уже о недостатках миссис Глегг, и обе втихомолку согласились с тем, что нельзя даже предугадать, каким пугалом сестрица Джейн вырядится в следующий раз. Их тет-а-тет был прерван появлением миссис Дин с маленькой Люси, и миссис Талливер с болью в душе пришлось наблюдать за тем, как сестрица приводит в порядок светлые кудряшки дочери. Объяснить, как у миссис Дин, самой худенькой и невзрачной из всех сестер Додсон, родился ребенок, которого с легкостью можно было принять за дитя миссис Талливер, не представлялось возможным. А рядом с Люси Мэгги неизменно выглядела в два раза темнее и смуглее обыкновенного.
Так случилось и сегодня, когда они с Томом вышли из сада в компании своего отца и дядюшки Глегга. Мэгги небрежно отшвырнула свой капор, волосы ее растрепались и растеряли последние следы завивки, и, завидев Люси, стоявшую рядом с матерью, она тут же устремилась к ней. Разница между кузинами никогда еще не была такой явственной и на первый взгляд оказывалась далеко не в пользу Мэгги, хотя ценитель мог бы заметить некоторые черты, благодаря которым она с возрастом обещала превратиться в настоящую красавицу по сравнению с кукольной опрятностью Люси. Это был контраст между грубоватым, темным и рослым щенком и беленьким котенком. Люси подставила для поцелуя розовые губки бантиком; каждая черточка в ее внешности выглядела опрятной и аккуратной – маленькая округлая шейка, украшенная ниткой кораллов; прямой маленький носик, при этом ничуть не курносый; маленькие тоненькие бровки, чуточку темнее кудряшек, как раз в тон выразительным карим глазам, со стеснительной радостью взиравшим на Мэгги, которая была выше ее на целую голову, будучи едва на год старше. Мэгги же всегда смотрела на Люси с нескрываемым восторгом.
Ей нравилось представлять себе мир, в котором взрослые не вырастали больше собственных детей и королева которого точь-в-точь походила на Люси, разве что с маленькой короной на голове и таким же маленьким скипетром в руке – при этом ею оказывалась сама Мэгги в обличье Люси.
– Ой, Люси, – выпалила она, целуя девочку, – ты ведь останешься с Томом и со мной, верно? Том, ну, поцелуй же ее.
Том тоже подошел к кузине, но целовать ее не собирался; он приблизился к ней одновременно с Мэгги, потому что в целом это казалось ему легче, чем поздороваться со всеми дядьями и тетками. Он стоял, избегая глядеть на кого-либо в отдельности, покраснев и неловко переминаясь с ноги на ногу, с той полуулыбкой на губах, что свойственна застенчивым мальчишкам на людях, – они словно извиняются за то, что попали в этот мир по ошибке, застав окружающих не полностью одетыми, что само по себе было уже неловким и досадным событием.
– Ах! – громко и многозначительно воскликнула тетушка Глегг. – Что, теперь маленькие мальчики и девочки входят в комнату, не обращая ни малейшего внимания на своих дядюшек и тетушек? Когда я была маленькой, все было совсем иначе.
– Подойдите и поздоровайтесь со своими дядюшками и тетушками, дорогие мои, – сказала миссис Талливер, на лице которой отразились тревога и уныние. А еще ей очень хотелось шепотом велеть Мэгги пойти и причесаться.
– Ну, как поживаете? Надеюсь, вы хорошо себя вели, не так ли? – все так же громко и многозначительно осведомилась тетка Глегг, крепко взяв их за руки и причиняя нешуточную боль своими большими кольцами, после чего расцеловала их в обе щеки против их желания. – Выше голову, Том, выше голову. Мальчики, учащиеся в школе-интернате, должны держать голову высоко. Ну-ка, посмотри на меня. – Но Том, очевидно, решил отказаться от столь сомнительного удовольствия, потому что попытался отнять руку. – А ты, Мэгги, заложи волосы за уши и поправь платье на плече.
Тетка Глегг всегда разговаривала с ними подобным звучным и многозначительным тоном, словно полагая их глухими или скорее недоразвитыми; ей казалось, что таким образом она дает им понять, что они должны отвечать за свои поступки, и на корню пресекает тенденции к непослушанию. Все-таки избалованные у Бесси дети – и кто-то же должен призвать их к порядку.
– Ах, мои дорогие, – сердобольным тоном обратилась к ним тетушка Пуллет, – как быстро вы растете. Боюсь, даже слишком быстро – это может быть вредно, – добавила она, с меланхолическим выражением глядя поверх их голов на миссис Талливер. – Полагаю, у девочки чересчур много волос. На твоем месте, сестрица, я проредила бы их и подстригла покороче; это дурно сказывается на ее здоровье. А еще я ничуть не удивлюсь, если от этого ее кожа выглядит такой смуглой. Ты согласна со мной, сестрица Дин?
– Даже не знаю, что сказать, сестра, – разомкнула плотно сжатые губы миссис Дин, окидывая Мэгги критическим взглядом.
– Нет-нет, – вмешался мистер Талливер. – Девочка вполне здорова, ее ничто не беспокоит. Если уж на то пошло, есть красная пшеница, а есть белая, и находятся те, кому по вкусу темные зерна. Но Бесси и в самом деле стоило бы подстричь ей волосы, тогда они, по крайней мере, стали бы гладкими.
Мэгги вновь решила было показать характер, но вовремя спохватилась, предпочтя узнать у своей тетки Дин, оставит ли она у них Люси. Та крайне редко отпускала дочку погостить у них. Не найдя подходящей причины для отказа, миссис Дин воззвала к самой Люси:
– Ты ведь не захочешь остаться здесь одна, без своей мамочки, правда, Люси?
– Да, пожалуйста, мама, – робко отозвалась девочка, покраснев до корней волос.
– Браво, Люси! Позвольте ей остаться, миссис Дин, право слово, – проговорил мистер Дин, крупный, но проворный мужчина того типа, что характерен для всех слоев английского общества – лысина на макушке, рыжие бакенбарды, высокий лоб и общая солидность без грузности. С равным успехом можно встретить лорда, похожего на мистера Дина, или обнаружить его двойника за прилавком зеленщика либо в робе поденщика; правда, светившаяся в его глазах проницательность встречалась в жизни намного реже.
В руке он крепко сжимал серебряную табакерку, время от времени угощая понюшкой адского зелья мистера Талливера, чья табакерка была всего лишь оправлена в серебро, что уже стало у них естественным поводом для шуток, – дескать, мистер Талливер не прочь заодно обменяться и табакерками. Безделицу эту подарили мистеру Дину старшие партнеры в фирме, в которой он подвизался, одновременно вместе с долей в своем бизнесе, что стало признанием его ценности в качестве управляющего. Никто другой не пользовался таким уважением в Сент-Оггзе, как мистер Дин, а кое-кто даже придерживался мнения, что мисс Сьюзен Додсон, которая, как некогда судачили, заключила самый неудачный брак среди всех сестер Додсон, может в один прекрасный день пересесть в экипаж и переехать в дом куда лучший, чем даже у ее сестрицы Пуллет. Кто знает, до каких высот доберется мужчина, ставший своим в большом предприятии наподобие «Гест энд Ко», владеющем мельницами и торговыми судами с банковским концерном в придачу? Да и сама миссис Дин, как отмечали ее близкие подруги, оказалась особой гордой и хваткой; уж она-то не позволит своему мужу остановиться в развитии из-за того, что некому дать ему хорошего пинка.
– Мэгги! – позвала миссис Талливер дочь после того, как вопрос с тем, что Люси останется у них, был решен положительно, и прошептала ей на ухо: – Ради всего святого, ступай и расчешись. Я же говорила тебе, чтобы ты не появлялась здесь до тех пор, пока Марта не приведет твои волосы в порядок.
– Том, идем со мной, – прошептала Мэгги брату, дернув его за рукав, когда проходила мимо, и тот охотно последовал за ней. – Поднимайся наверх, – шепнула она, когда они оказались за дверью. – Перед обедом я хочу кое-что сделать.
– На игры не осталось времени, – отозвался Том, мысли которого занимал только и исключительно обед.
– Нет, на это как раз времени хватит. Идем, Том.
Том последовал за Мэгги наверх в комнату матери и увидел, как она немедленно подошла к комоду, из которого вытащила большие ножницы.
– Для чего они тебе, Мэгги? – спросил Том, в котором вдруг пробудилось любопытство.
Вместо ответа Мэгги схватила себя за челку и отрезала изрядную прядь волос.
– Вот это да! Мэгги, ну и влетит же тебе! – воскликнул Том. – Ты уж больше не отстригай ничего.
Чик! Большие ножницы защелкали вновь, не успел Том умолкнуть, и вдруг происходящее показалось ему забавным: Мэгги будет сама на себя не похожа.
– Том, обстриги их сзади, мне самой не достать, – попросила его Мэгги, вдохновленная собственной смелостью, желая поскорее закончить начатое.
– Тебе влетит по первое число, – предостерег ее Том, укоризненно качая головой, и заколебался, приняв у сестры ножницы.
– Не обращай внимания, давай быстрее! – сказала Мэгги и даже притопнула ногой. Щеки у нее раскраснелись.
Черные кудри были столь густыми, что перед таким искушением не смог бы устоять ни один юноша, особенно тот, кто однажды подстригал гриву пони. Я говорю о тех, кто уже познал подобное удовольствие, чувствуя, как лезвия ножниц смыкаются, преодолевая сопротивление густых волос. Вот раздался восхитительный скрежещущий щелчок, потом еще один и еще, и волосы с затылка тяжело упали на пол, а Мэгги стала походить на обгрызенную кочерыжку, при этом ощущая такую легкость и свободу, словно вышла из густого леса на открытую всем ветрам опушку.
– Ох, Мэгги! – сказал Том, прыгая вокруг нее и со смехом хлопая себя по коленям. – Провалиться мне на этом месте! Ну и видок у тебя! Ты только взгляни на себя в зеркало! Ты похожа на того ненормального, в которого мы в школе кидались ореховой скорлупой.
А Мэгги вдруг ощутила неожиданный укол в сердце. До этого она главным образом думала лишь о том, как избавится от непокорных волос и издевательских комментариев по их поводу, а также предвкушала, как восторжествует над матерью и тетками, прибегнув к столь решительным действиям; она не хотела, чтобы ее прическа выглядела красиво – это исключалось по определению, – но мечтала о том, чтобы окружающие считали ее умненькой маленькой девочкой, а не придирались к ней понапрасну. Но теперь, когда Том начал смеяться над ней, а потом и заявил, что она похожа на ненормальную, вся эта история вдруг предстала перед ней в совершенно ином свете. Она уставилась на себя в зеркало, Том все продолжал хохотать и хлопать в ладоши, и сперва щеки Мэгги залила бледность, а потом у нее задрожали губы.
– Ох, Мэгги, тебе надо сойти вниз прямиком к обеду, – всхлипывая от смеха, выдавил Том. – Нет, я больше не могу!
– Не смейся надо мной, Том! – вскричала Мэгги, заливаясь сердитыми слезами, топнула ножкой и оттолкнула его от себя.
– Эй, потише, злючка! – огрызнулся Том. – Ну и зачем ты тогда обстригала их, а? Ладно, я иду вниз: судя по запаху, обед уже готов.
С этими словами он поспешил вниз, оставив бедную Мэгги с горьким ощущением того, что случилось нечто непоправимое, причем в очередной раз, как бывало почти каждый день. Теперь-то она понимала, что сотворила невероятную глупость, но ничего исправить было уже нельзя, и слушать порицания и думать о своих волосах ей предстоит куда чаще, чем раньше. Была у Мэгги склонность сначала поддаваться минутному порыву, а потом не только отчетливо видеть последствия содеянного, но и то, что было бы, если бы она устояла перед соблазном, причем в мельчайших подробностях, которые рисовало ей живое воображение. А вот Том, в отличие от Мэгги, никогда не совершил подобных глупостей; ему на помощь приходило шестое чувство, и он прекрасно понимал, чем все это для него обернется – к добру или худу; и хотя упрямством и непреклонностью он далеко превосходил Мэгги, мать почти никогда не ругала его за непослушание. Но стоило ему все-таки совершить оплошность подобного рода, как он упирался и стоял на своем: подумаешь! Ничего страшного ведь не произошло? Если ему случалось сломать плеть отцовского кнута, хлеща им по воротам, то он тут был ни при чем – не надо было тому застревать в петле, и все тут. Если Том Талливер хлестал кнутом по воротам, то он был убежден в том, что так имеет полное право поступить любой мальчишка, а он, Том Талливер, имел все основания для того, чтобы колотить именно по этим воротам, – следовательно, раскаиваться ему решительно не в чем.
Но Мэгги, в слезах стоявшей перед зеркалом, казалась невыносимой сама мысль о том, чтобы сойти к обеду, где придется молча сносить сердитые взгляды и попреки своих теток, пока Том, Люси и Марта, прислуживавшая у стола, да еще, возможно, отец и дядья будут смеяться над ней. Потому что уж если над ней начнет смеяться Том, то остальные наверняка подхватят. Ах, если бы только она оставила свои волосы в покое, то сейчас сидела бы за столом с Томом и Люси, уплетая за обе щеки абрикосовый пудинг с заварным кремом из яиц и молока! Ну и что ей теперь оставалось, если не рыдать в три ручья? Она сидела, беспомощная и отчаявшаяся, в окружении своих черных локонов, словно Аякс среди зарубленных овец. Пожалуй, ее страдания могли бы показаться не стоящими внимания закаленным смертным, которым приходится думать о счетах за подарки на Рождество, умершей любви и разбитой дружбе; но для самой Мэгги они не стали от этого менее пустяковыми – скорее, даже наоборот, – нежели те, которые мы по привычке именуем настоящими проблемами взрослой жизни.
«Ах, дитя мое, вот придут настоящие беды, тогда и будешь убиваться!» – подобное слабое утешение почти всем нам доводилось выслушивать в детстве, и мы, став взрослыми, бездумно повторяем его своим детям. Все мы жалобно заливались слезами, стоя с голенькими ножками в коротеньких носочках, когда теряли из виду маму или няньку в каком-нибудь незнакомом месте; но мы более не помним всей остроты этого момента, как и не можем оплакать его, что случается с нашими же страданиями, настигшими нас пять или десять лет назад. Нет, каждое из этих мгновений оставило свой след и до сих пор живет в нас, но их последствия безвозвратно смешались с более плотной текстурой нашей юности и зрелости; вот так и получается, что на горести собственных детей мы смотрим с улыбкой, не веря в реальность их боли. И найдется ли среди нас кто-либо, способный вспомнить свои детские переживания, причем не только то, что он сделал и что после этого с ним сталось, что он любил или ненавидел, пока ходил в детском платьице или коротких штанишках, а заглянуть в собственную душу и оживить воспоминания о том, что он тогда чувствовал, когда расстояние от одного Иванова дня до другого казалось непреодолимым; что он чувствовал, когда школьные товарищи не брали его в игру только потому, что он мог неправильно ударить по мячу; или в дождливый день на каникулах, когда он не знал, чем себя занять, и от безделья ударялся в проказы, от проказ – в обиду, а от обиды переходил к угрюмой неразговорчивости; или когда мать наотрез отказывалась купить ему пиджак с фалдами, хотя каждый второй мальчишка в его возрасте уже носил такой? А ведь стоит нам только постараться вспомнить те детские обиды, смутные догадки и казавшуюся погубленной жизнь и безрадостные перспективы, придающие детской горечи всю ее остроту, как у нас пропадет всякое желание смеяться над бедами своих детей.
– Мисс Мэгги, вы должны тотчас сойти вниз, – сказала Кассия, поспешно входя в комнату. – Господи Иисусе! Что это вы тут устроили? В жизни не видала такого кошмара!
– Замолчи, Кассия, – огрызнулась Мэгги. – Ступай прочь!
– Повторяю: вы должны немедленно сойти вниз, мисс, сию же минуту. Так велит ваша матушка, – заявила Кассия, подойдя к Мэгги и взяв ее за руку, чтобы помочь той подняться на ноги.
– Ступай прочь, Кассия! Я не хочу обедать, – возразила Мэгги, вырываясь. – Я никуда не пойду.
– Я не могу остаться. Мне надо прислуживать за столом, – сказала Кассия, выходя из комнаты.
– Мэгги, глупышка, – заговорил Том, заглядывая в комнату десять минут спустя. – Почему бы тебе не сойти вниз и не пообедать? Там полно всяких сластей, и мама говорит, что ты должна обязательно сидеть за столом. Чего ты ревешь, маленькая дурочка?
Это было ужасно! Том оказался жестоким и бессердечным; вот если бы он сидел и плакал на полу, то Мэгги тоже расплакалась бы с ним за компанию. А ведь был еще и обед, такой замечательный и вкусный; к тому же ей очень хотелось есть. Но сейчас ее переполняла горечь.
Однако Том, как оказалось, еще не окончательно закоснел в своем эгоизме. Правда, не был он склонен и заливаться слезами, как и не считал, что горе Мэгги должно испортить ему аппетит, но он подошел и склонился над ней, после чего спросил подбадривающим тоном, понизив голос:
– Так что, не пойдешь вниз, Мэгси? Или принести тебе сюда кусочек пудинга с заварным кремом и еще что-нибудь после того, как я сам пообедаю?
– Д-да, – протянула Мэгги, чувствуя, что жизнь начинает понемногу налаживаться.
– Очень хорошо, – согласился Том и повернулся, чтобы уйти. Но у дверей он вновь обернулся и сказал: – Знаешь, тебе все-таки лучше сойти бы вниз самой. Там такой десерт, что пальчики оближешь, с орехами и вином из первоцветов.
Слезы Мэгги моментально высохли, и она задумчиво уставилась вслед Тому. Своей покладистостью и добродушием он смягчил остроту ее страданий, и орехи с вином из первоцветов произвели вполне ожидаемое действие.
Она медленно встала с пола, на котором валялись в беспорядке ее остриженные локоны, и столь же медленно направилась вниз. Там она остановилась, привалившись плечом к косяку двери в гостиную и осторожно заглядывая внутрь, когда та распахивалась. Она увидела Тома и Люси, между которыми стоял пустой стул, а на приставном столике разглядела заварной крем из яиц и молока; это было уже слишком. Она проскользнула в комнату и направилась к незанятому месту. Впрочем, не успев опуститься на стул, она уже пожалела о своем решении и о том, что вообще вошла сюда.
Завидев ее, миссис Талливер негромко вскрикнула; она испытала такое нервное потрясение, что уронила большую ложку для соуса обратно в блюдо, и это имело самые серьезные и непоправимые последствия для скатерти. Очевидно, Кассия не стала разглашать причины того, почему Мэгги отказывалась сходить вниз, не желая повергать в шок свою хозяйку в самый ответственный момент разрезания блюда, и миссис Талливер сочла, что дело, как всегда, в обыкновенном упрямстве Мэгги, которая сама себя наказывает, лишаясь половины обеда.
Восклицание миссис Талливер заставило взоры всех присутствующих обратиться в ту же сторону, что и ее собственный, и у Мэгги загорелись щеки и уши. Между тем дядя Глегг, добродушный и седоволосый пожилой джентльмен, сказал:
– Однако! И что же это за маленькая девочка? По-моему, я с ней не знаком. Где ты ее взяла, Кассия? Подобрала на дороге?
– Нет, вы только взгляните: она взяла и постриглась сама, – со смехом заявил мистер Талливер мистеру Дину, доверительно наклонившись к нему и понизив голос. – Вы когда-нибудь видели столь дерзкую девчонку?
– Юная мисс, на мой взгляд, вы выставили себя на посмешище, – сказал дядя Пуллет, и еще никогда в жизни его замечание не было столь уместным и язвительным.
– Фи, какой позор! – заявила тетка Глегг своим самым громким и суровым тоном, вынося строжайший приговор. – Маленьких девочек, которые сами обстригают себе волосы, следует нещадно пороть и держать на хлебе и воде – и не позволять им являться за стол и как ни в чем не бывало усаживаться вместе со своими тетушками и дядюшками.
– Да-да, – подхватил дядя Глегг, намереваясь свести к шутке столь суровый упрек. – Ее нужно посадить в тюрьму, а уж там ее обстригут наголо – подравняют волосы, так сказать.
– Она еще сильнее стала походить на цыганку, – сожалеющим тоном произнесла тетка Пуллет. – Какая незадача, сестрица, что девочка у тебя такая смуглая, а вот мальчик светловолос, что не может не радовать. Нисколько не сомневаюсь, что такой цвет лица изрядно осложнит ей жизнь.
– Она – непослушный ребенок, который разобьет сердце своей матери, – со слезами на глазах заявила миссис Талливер.
Казалось, на Мэгги обрушился целый хор упреков и презрения. Поначалу она зарделась от гнева, что придало ей сил и заставило воинственно вздернуть подбородок, и Том даже решил, что она переживет всеобщее осуждение, учитывая недавнее появление на столе пудинга и крема. И потому, рассудив здраво, он прошептал: «Бог ты мой! Мэгги, я же говорил, что тебе влетит». Он хотел по-дружески приободрить ее, но Мэгги сочла, что и Том радуется ее бесчестью. Ее демонстративное неповиновение на поверку оказалось всего лишь игрой. Оно покинуло ее в мгновение ока, сердце у нее преисполнилось обиды на весь белый свет, и, вскочив со своего места, она бросилась к отцу, спрятала лицо у него на груди и в голос разрыдалась.
– Тише, тише, девочка моя, – попытался успокоить ее он и, обняв одной рукой за плечи, погладил по спине. – Не расстраивайся. Волосы тебе мешали, и ты их остригла, что тут такого? Не плачь, не надо, папа на твоей стороне.
Слова, исполненные восхитительной нежности! Мэгги до конца своих дней не забудет те моменты, когда отец «вставал на ее сторону»; она бережно хранила их в глубине своего сердца и вспоминала долгие годы спустя, когда все вокруг утверждали, что ее отец дурно воспитывает своих детей.
– Ох и избаловал же твой муж этого ребенка, Бесси! – громким театральным шепотом сообщила миссис Глегг миссис Талливер. – Это окончательно погубит ее, если ты незамедлительно не примешь меры. Мой отец никогда не воспитывал своих детей подобным образом, иначе мы были бы совсем другой семьей.
В эту минуту, судя по всему, домашние невзгоды миссис Талливер достигли той точки, за которой наступает безразличие. Пропустив мимо ушей последние слова сестрицы, она отбросила завязки своего капора и принялась молча разрезать пудинг.
Десерт принес и полное отпущение грехов Мэгги; детям было сказано, что орехи и вино они могут взять с собой в летний домик, раз уж погода выдалась такой мягкой, и они принялись носиться среди распускающихся кустов в саду с живостью маленьких зверьков, удравших из-под зажигательного стекла.
Для подобного разрешения у миссис Талливер имелись особые соображения: теперь, когда с обедом было покончено и головы у гостей освободились от забот насущных, наступил самый подходящий момент для того, чтобы сообщить им о намерении мистера Талливера в отношении Тома, и было бы очень кстати, чтобы сам Том при обсуждении не присутствовал. Дети давно привыкли, что о них говорят в третьем лице, причем свободно, как о птичках, и ничего не понимали, как бы при этом ни вытягивали шеи и ни прислушивались. Но в данном случае миссис Талливер проявила несвойственную ей предусмотрительность, поскольку совсем недавно имела возможность убедиться, что отправка в школу к клирику – больной вопрос для Тома, для которого это было то же самое, что отправиться на обучение к констеблю. Миссис Талливер, вздыхая, предчувствовала, что ее супруг поступит, как сочтет нужным, невзирая на все, что скажет ему сестрица Глегг или та же сестрица Пуллет; но, по крайней мере, если все обернется плохо, они не смогут упрекнуть ее в том, что Бесси потакала мужниной глупости, ни словом не заикнувшись об этом своим друзьям.
– Мистер Талливер, – сказала она, прерывая его разговор с мистером Дином, – настало время сообщить тетушкам и дядюшкам детей о том, как вы намерены поступить с Томом, не правда ли?
– Очень хорошо, – довольно резко бросил тот. – Я ничуть не возражаю против того, чтобы рассказать всем, как я намерен обойтись с ним. Я решил, – добавил он, глядя на мистера Глегга и мистера Дина, – я решил отослать его к мистеру Стеллингу, пастору в Кингз-Лортон, необыкновенно сведущему малому, чтобы тот научил его всему, что знает сам.
По рядам гостей прокатился негромкий шепоток удивления и шуршание, какое бывает в сельской конгрегации, когда они слышат упоминание о своих каждодневных делах с амвона. Кроме того, тетки и дядья были чрезвычайно поражены тем, что пастор посвящен в семейные дела мистера Талливера. Что же до дядюшки Пуллета, то он, пожалуй, удивился бы куда меньше, заяви мистер Талливер, что намерен отдать Тома на обучение к самому лорд-канцлеру; ведь дядюшка Пуллет принадлежал к почти выродившемуся сословию британских йоменов, каковые, хотя и одевались в отличное тонкое черное сукно, платили высокие процентные ставки и налоги, ходили в церковь и воздавали должное праздничным обедам по воскресеньям, не допускали и мысли о том, что британское образование имеет какое-либо отношение к церкви и государству, равно как и к Солнечной системе и неподвижным звездам.
Печально, но факт: у мистера Пуллета имелось некое смутное представление о том, что епископ – это нечто вроде баронета, который может быть, а может и не быть клириком; и поскольку пастором его собственного прихода был представитель знатной фамилии и обладатель большого состояния, то мысль о том, что служитель церкви может быть школьным учителем, настолько далеко выходила за рамки жизненного опыта мистера Пуллета, что казалась попросту невероятной. Я вполне отдаю себе отчет в том, что в наши просвещенные времена трудно поверить в подобное невежество мистера Пуллета, но не стоит забывать при этом о великолепных результатах, которые демонстрируют наши природные способности при благоприятных обстоятельствах. А дядюшка Пуллет обладал поистине выдающейся способностью к невежеству. И поэтому он первым пришел в себя и первым же подал голос.
– Почему вы отдаете его в обучение именно пастору? – с изумлением осведомился он, глядя на мистера Глегга и мистера Дина в поисках поддержки.
– Да потому, что пасторы – лучшие школьные учителя, насколько я могу судить, – ответил бедный мистер Талливер, готовый в запутанном лабиринте этого непонятного мира цепко ухватиться за единственный доступный ему аргумент. – Джейкобз в академии – никакой не пастор, и мальчику он только навредил, причем здорово; и тогда я рассудил, что если вновь отправлять его в школу, то отличную от Джейкобза. А этот мистер Стеллинг, как мне говорили, – тот самый человек, который мне нужен. И я намерен отправить к нему своего мальчика уже к Иванову дню, – заключил он решительным тоном, постучав по крышке своей табакерки и угостившись понюшкой.
– Но тогда вам придется оплатить огромный счет за полгода сразу, не так ли, Талливер? В общем и целом клирики о себе весьма высокого мнения, – сказал мистер Дин, яростно втягивая носом табак, как делал всегда, когда желал продемонстрировать непредвзятое мнение.
– Как! Вы всерьез полагаете, что пастор научит его отличать хорошее зерно от плохого, сосед Талливер? – возопил мистер Глегг, которому нравились собственные шутки. Отойдя от дел, он решил, что ему не только дозволяется, но и подобает относиться к окружающим со всей возможной игривостью.
– Видите ли, у меня есть определенные виды на Тома, – признался мистер Талливер. Сделав подобное заявление, он выдержал паузу и взялся за бокал.
– Что ж, если мне будет дозволено высказать свое мнение, что случается редко, – начала миссис Глегг тоном, исполненным горечи, – я бы хотела знать, что хорошего в том, чтобы дать мальчику воспитание не по средствам.
– Видите ли, – ответил мистер Талливер, глядя не на миссис Глегг, а на мужскую часть своей аудитории, – видите ли, я решил, что не стану готовить Тома себе на смену. Я давно ломаю голову над этим вопросом, а потому рассудил, что поступлю так, как Гарнетт со своим сыном. Я намерен пристроить его к какому-нибудь делу, для которого ему не понадобится капитал, и хочу дать ему такое образование, чтобы он не терялся в компании стряпчих и прочей публики, а время от времени и мне помогал советом.
Миссис Глегг издала странный звук, не разжимая губ, после чего улыбнулась с жалостью и презрением.
После такой вступительной части она изрекла:
– Кое для кого было бы лучше, если бы они оставили стряпчих в покое.
– Этот клирик, он что же, директорствует в классической школе, вроде той, что имеется в Маркет-Бьюли? – поинтересовался мистер Дин.
– Нет, ничего подобного, – сказал мистер Талливер. – Он не берет более двух-трех учеников, так что у него остается больше времени на каждого.
– Ага, и учеба идет быстрее: когда их много, они не успевают выучить все, – заключил дядюшка Пуллет, весьма довольный тем, что первым разобрался в подоплеке столь запутанного дела.
– Не сомневаюсь, что и плату он потребует повышенную, – заявил мистер Глегг.
– Это точно, целую сотню фунтов в год, – согласился мистер Талливер, гордясь собственной решительностью. – Впрочем, я рассматриваю это как инвестицию; образование станет для Тома первичным капиталом.
– М-да, а ведь в этом что-то есть, – заключил мистер Глегг. – Да-да, сосед Талливер, вы можете оказаться правы, точно вам говорю: «Когда не осталось земли и денег, то стоит взяться за ученье». Помню, что видел это двустишие на витрине в Бакстоне. Зато нам, неучам, лучше поберечь свои денежки, а, сосед Пуллет? – И мистер Глегг с довольным видом потер колени.
– Мистер Глегг, я вам удивляюсь, – заявила его жена. – Такое поведение не подобает человеку вашего возраста и положения.
– Что именно вы находите неподобающего, миссис Джи? – осведомился мистер Глегг, лукаво подмигивая честной компании. – Мой новый голубой сюртук, который я надел?
– Я сожалею о вашей слабости, мистер Глегг. Я говорю, что не подобает шутить, видя, как ваш родственник спешит прямой дорогой к разорению.
– Если это камень в мой огород, – весьма уязвленный в лучших чувствах, заявил мистер Талливер, – то за меня можете не беспокоиться. Я способен разобраться со своими делами и без того, чтобы досаждать другим.
– Будь я проклят! – сказал мистер Дин, которому в голову пришла счастливая мысль. – Если подумать хорошенько, то кто-то говорил, будто Уэйкем собрался отдать своего сына – того, увечного – клирику, не так ли, Сьюзен? – воззвал он к своей жене.
– Ничем не могу помочь, – отозвалась миссис Дин, вновь крепко поджимая губы. Она была не из тех, кто спешит принять посильное участие в ожесточенной пикировке.
– Что ж, – подытожил мистер Талливер, в голосе которого прорезались столь жизнерадостные нотки, что миссис Глегг непременно должна была уразуметь, что ему нет дела до ее мнения, – если уж Уэйкем подумывает о том, чтобы отдать своего сына клирику, то не будет большой беды, если я отдам пастору Тома. Уэйкем – негодяй, каких свет не видывал, но он наперечет знает слабости каждого, с кем имеет дело. Да-да, скажите мне, кто мясник Уэйкема, и я скажу вам, где купить мясо.
– Но сын стряпчего Уэйкема – горбун, – заметила миссис Пуллет, сочтя, что дело обретает слишком уж мрачный оттенок. – Так что с его стороны вполне естественно отдать его священнику.
– Да-да, – подхватил мистер Глегг, приняв замечание миссис Пуллет за чистую монету. – Подумайте об этом, сосед Талливер. Сын Уэйкема едва ли унаследует его дело. Уэйкему ничего не остается, как сделать из бедняги джентльмена.
– Мистер Глегг, – сказала миссис Джи таким тоном, который предполагал, что она вот-вот выйдет из себя, хотя и старается из последних сил сдержать свое негодование, – придержали бы вы язык за зубами, а? Мистера Талливера не интересует ни ваше мнение, ни мое. Есть такие люди, которые полагают, что знают все лучше всех на свете.
– Я бы сказал, что это в первую очередь относится к вам, судя по вашим словам, – заявил мистер Талливер, вновь начиная закипать.
– Молчу-молчу, – с сарказмом отозвалась миссис Глегг. – Моего совета никто не спрашивал, а у меня нет привычки навязываться.
– Что ж, если такое и случится, то впервые, – заметил мистер Талливер. – Обычно советы – единственное, что вы раздаете направо и налево.
– Что ж, пожалуй, мне стоит начать одалживаться, если уж я не могу давать, – заявила в ответ миссис Глегг. – И в следующий раз одалживать деньги другим людям, а не родственникам, о чем я теперь крайне сожалею.
– Перестаньте, перестаньте же, прошу вас, – умиротворяющим тоном вмешался в разгорающуюся ссору мистер Глегг. Но мистер Талливер явно желал оставить последнее слово за собой.
– У вас наверняка имеется долговая расписка, – сказал он. – И свои пять процентов вы тоже получите, родственники там или не родственники.
– Сестрица, – взмолилась миссис Талливер, – лучше выпей вина, и позволь мне угостить тебя миндальными орехами с изюмом.
– Бесси, мне очень жаль тебя, – сказала миссис Глегг, напоминая в этот момент дворняжку, которая воспользовалась первой же возможностью, чтобы обратить свой злобный лай на человека, у которого в руках нет палки. – Не заговаривай мне зубы своими миндальными орехами с изюмом.
– Бог ты мой, сестрица Глегг, к чему затевать очередной скандал? – сказала миссис Пуллет и даже прослезилась немного. – С тобой может приключиться удар, ты так раскраснелась после обеда, а ведь у всех нас только что закончился траур – и платья наши одинаково были отделаны крепом, и мы едва успели убрать их в шкафы. Сестры должны жить дружно.
– Ты права, – заявила в ответ миссис Глегг. – Мы дошли до крайности, когда одна сестра приглашает другую в свой дом для того, чтобы ссориться с ней и оскорблять ее.
– Успокойся, Джейн, и не горячись. Будь благоразумной, прошу тебя, – сказал мистер Глегг.
Не успел он умолкнуть, как мистер Талливер, который, по его мнению, сказал слишком мало, чтобы выплеснуть свой гнев, взорвался вновь.
– Разве кто-нибудь ищет с вами ссоры? – сказал он. – Это вы не можете оставить людей в покое, все грызете и грызете их и никак не уйметесь. Я никогда не затеваю склоку с женщиной, если она знает свое место.
– Мое место, надо же! – воскликнула миссис Глегг, причем в голосе ее прозвучали визгливые нотки. – Люди и получше вас, мистер Талливер, пусть они и спят уже вечным сном, относились ко мне с куда большим уважением, нежели вы. Хотя у меня есть муж, который сидит и спокойно глядит на то, как меня оскорбляют те, у кого и возможности такой никогда не было бы, если бы кое-кто из нашей семьи не заключил мезальянс.
– Раз уж вы заговорили об этом, – сказал мистер Талливер, – то моя семья ничуть не хуже вашей, а то и получше, поскольку в ней не водится сварливых теток!
– С меня хватит, – заявила миссис Глегг, вставая со стула. – Судя по всему, вам нравится преспокойно сидеть рядом и слушать, как меня поносят по-всякому, мистер Глегг, но я более ни минуты не останусь в этом доме. Вы же вольны задержаться и вернетесь домой в кабриолете, а я пойду пешком.
– Дорогая, дорогая! – уныло запричитал мистер Глегг, вслед за женой выходя из комнаты.
– Мистер Талливер, что вы наделали? – со слезами на глазах пролепетала миссис Талливер.
– Пусть себе уходит, – огрызнулся мистер Талливер, еще слишком разгоряченный, чтобы его можно было охладить хотя бы морем слез. – Пусть себе уходит, и чем скорее, тем лучше. В другой раз будет думать, прежде чем попрекать меня, да еще столь беспардонно.
– Сестрица Пуллет, – беспомощно проговорила миссис Талливер, – ты не могла бы догнать ее и попытаться успокоить?
– Лучше не надо, лучше не надо, – возразил мистер Дин. – Как-нибудь в другой раз.
– В таком случае, сестрицы, быть может, пойдемте взглянем на детей? – предложила миссис Талливер, утирая слезы.
Предложение это прозвучало как нельзя более кстати. У мистера Талливера тотчас возникло ощущение, будто в воздухе перестали жужжать назойливые мухи, как только женщины вышли из комнаты. Поболтать с мистером Дином он любил больше всего на свете, но оттого, что тот почти всегда был плотно занят делами, подобное удовольствие выпадало ему крайне редко. Он не без оснований полагал мистера Дина самым «знающим» из своих знакомцев; кроме того, язычок у того отличался чрезвычайной язвительностью, что служило прекрасным дополнением той же черты характера у самого мистера Талливера, которую, впрочем, тому нечасто удавалось выразить членораздельно. Так что теперь, в отсутствие женщин, они могли продолжить серьезный мужской разговор без всякого фривольного вмешательства. Они без помехи могли обменяться мнениями по поводу герцога Веллингтона, чье поведение в вопросе католической веры пролило новый свет на его характер, и без всякого почтения отозваться о его участии в битве при Ватерлоо, которую он никогда не выиграл бы, если бы за его спиной не стояла целая армия англичан, не говоря уже о Блюхере и пруссаках, которые, как мистер Талливер слыхал от весьма осведомленного в этом вопросе источника, подоспели в самый последний момент. Хотя тут у них наблюдались некоторые разногласия, поскольку мистер Дин недвусмысленно дал понять, что не такого уж он и высокого мнения о пруссаках – корабли их постройки, вкупе с неудовлетворительными сделками с пивом из Данцига, позволяют ему весьма скептически отнестись к наличию у пруссаков мужества и отваги.
Потерпев поражение на этом поле боя, мистер Талливер поспешил выразить свои опасения в том, что страна уже никогда более не станет такой, как прежде; но мистер Дин, связанный с фирмой, доходы которой только увеличивались, вполне естественно, видел настоящее в не таком уж мрачном свете. Он посвятил собеседника в кое-какие подробности экспортно-импортных операций, в частности кожевенного сырья и сырого цинка, и те несколько уняли разыгравшееся воображение мистера Талливера, отодвинув на неопределенный срок перспективу того, что государство падет жертвой папистов и радикалов, а честным людям останется только прозябать в нищете.
Дядюшка Пуллет сидел рядом и с большим интересом прислушивался к обсуждению столь высоких материй. Сам он в политике не разбирался, – полагая это природным даром, – но, судя по всему, этот самый герцог Веллингтон был ничуть не лучше его самого.