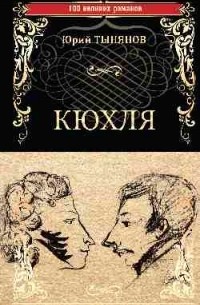Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
IV
Устинька видела, как Вильгельм озабочен. Подумала и решила написать Грибоедову, с которым сама была знакома мало, но, по рассказам Вильгельма, любила.
Она писала Грибоедову, что будущность брата страшит ее – не потому, что его несчастья преследуют, а потому, что самый характер брата влечет его к несчастьям.
Грибоедов долго не отвечал.
Наконец Устинька получила от него письмо.
«Милостивая государыня! – писал Грибоедов. – Замедля столь долгое время ответом на ваше приветливое письмо, ломаю себе голову, чтобы придумать какую-нибудь увертку в оправдание моего поступка; но ведь вас не проведешь. Подумайте о пространствах, нас разлучающих, о вечных моих разъездах, занимающих пять шестых моего пребывания в этой стране: письма тех, которые меня помнят, томятся целый век на почте, пока мне удастся их оттуда получить. Одно, что меня успокаивает, – это то, что мой, да и ваш достойный друг хорошо знает все свойства моего характера. Он, вероятно, предупредил вас, что во всех обычных мне уклонениях от обычаев и приличий не виновны ни мое сердце, ни недостаток во мне чувства.
Рассчитывая на ваше снисхождение, я хочу поговорить с вами о человеке, который во всех отношениях лучше меня и который равно дорог как вам, так и мне. Что он поделывает, наш добрый Вильгельм, подвергшийся несчастью, прежде нежели успел воспользоваться столь немногими истинными удовольствиями, доставляемыми нам обществом; мучимый, не понятый людьми, между тем как он отдается каждому встречному с самым искренним увлечением, радушием и любовью… не должно ли было все это привлечь к нему общее расположение? Всегда опасаясь быть в тягость другим, он становится в тягость лишь собственной чувствительности! Я полагаю, что он теперь с вами, окруженный любезными родными.
Кто бы сказал полгода тому назад, что я кончу тем, что буду завидовать даже злополучной его звезде! Ах! ежели чье-либо несчастье может облегчить другого несчастного, то передайте ему, что теперь я в тягость самому себе и одинок среди людей, к которым совершенно равнодушен; еще несколько дней, и я покидаю этот город, оставляю здесь скуку и разочарование, которые меня преследуют здесь и которые, быть может, я обрету и в другом месте.
Убедите вашего брата, чтобы покорился судьбе и смотрел на наши страдания как на испытания, из которых мы выйдем менее пылкими, более хладнокровными, с грузом душевной твердости, которая у людей неопытных возбудит почтение, и, верно, им покажется, будто мы всю жизнь нашу благоденствовали, и если судьба отдалит конец дней наших, – причудливая дряхлость, сухой кашель и вечное повторение уроков молодости – вот убежище, к которому после всего пристанет каждый из нас – и я, и Вильгельм, и все счастливцы сих дней. Виноват, милостивая государыня, что вставил в это письмо печальные излияния, от которых мог бы вас избавить. Взявшись за перо, единственное мое намерение было облегчить себя искренним признанием, что виноват перед вами.
Примите уверение в чувствах совершенного к вам уважения.
Грибоедов».
Устинька долго сидела над письмом Александра, и слезы стояли у нее на глазах. Странное дело, ей было даже более жаль Александра, чем Вильгельма. Боже, один, далеко, среди чужих полудикарей. Какое несчастье над ними всеми тяготеет!
Ей хотелось сию же минуту увидеть Александра, втолковать ему, что он молод, что не нужно, не нужно так (что «не нужно» – Устинька сама толком не понимала). Ах, если бы их успокоить, утешить всех – и Александра, и Вильгельма, и несчастного Пушкина. Что это сделалось с ними со всеми, безумие какое-то. Все бездомные, одичалые.
В комнату вошел Вильгельм.
Устинька быстро спрятала письмо на груди. Она не имела сил сейчас его показывать, боясь расплакаться.