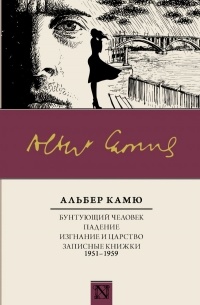Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
Сыны Каина
Собственно говоря, идея метафизического бунта появляется в связном виде в истории философии только в конце XVIII века. С наступлением Нового времени с громким шумом рушатся всевозможные стены. Следствия этой идеи развиваются непрерывно, и не будет преувеличением сказать, что они сформировали историю нашего времени. Означает ли это, что прежде идея метафизического бунта не имела смысла? Его модели далеки от нас, а наша эпоха любит приписывать себе прометеевское начало. Но обладает ли она им на самом деле?
В первых теогониях мы видим Прометея прикованным к скале где-то на задворках мира – это вечный страдалец, навсегда лишенный права на прощение, молить о котором не желает. Эсхил особенно подчеркивает героический статус Прометея, наделяя его даром предвидения («Все, что предстоит снести, / Мне хорошо известно»), заставляя выплескивать свою ненависть к богам и погружая в «бушующее море неизбывных мук», чтобы в конце в грохоте грома низвергнуться под землю под ударами молний: «Без вины страдаю – глядите!»
Итак, древние греки задумывались о метафизическом бунте. Задолго до Сатаны они вывели образ благородного Бунтаря-страдальца, создав величайший миф о восставшем разуме. Неисчерпаемый греческий гений, внесший такой огромный вклад в сотворение мифов о согласии и скромности, сумел, несмотря ни на что, создать свою модель восстания. Бесспорно, отдельные прометеевские черты все еще живы в переживаемой нами истории бунта: борьба против смерти («Я племя смертное / От гибели в Аиде самовольно спас»), мессианизм («Я их слепыми наделил надеждами»), филантропия («Да, я ненавистен и Зевсу… потому, / Что меры не знал я, смертных любя»).
Но не следует забывать, что «Прометей-огненосец» – последняя часть эсхиловской трилогии – провозглашала царство прощенного бунта. Греки не были жестокосердными. В самых дерзновенных своих порывах они соблюдали меру, которую обожествляли. Бунтуя, они восставали не против творения в целом, а против Зевса – всего лишь одного из богов, дни которого были сочтены. Сам Прометей – полубог. Так что здесь речь идет об особом сведении счетов, о споре вокруг понятия блага, а не о вселенской битве добра и зла.
Дело в том, что древние греки, веря в судьбу, прежде всего верили в природу, частью которой считали себя. Восстать против природы – значит восстать против себя, то есть биться головой о стену. В таком случае единственно логичным бунтом становится самоубийство. Сама судьба у греков – это слепая сила, в равной мере подчиняющая себе все остальное и подчиняющаяся себе же. Вершиной нарушения чувства меры является для грека безумная в своем варварстве попытка высечь море. Грек, скорее всего, признает безрассудство, раз уж оно существует, но отводит ему надлежащее место, то есть заключает его в определенные границы. Негодование Ахилла после гибели Патрокла и гнев трагических героев, проклинающих судьбу, не влекут за собой осуждения всего и вся. Эдип знает, что он не невиновен. Он виновен помимо собственной воли – такова уж его судьба. Он сетует, но не произносит непоправимых слов. Даже Антигона если и восстает, то лишь во имя традиции, ратуя за то, чтобы ее братья обрели покой в могиле и все обряды были соблюдены. В некотором смысле ее бунт можно назвать реакционным. Греческая двуликая философия почти всегда позволяет за самой безнадежной мелодией расслышать вечное слово Эдипа, ослепленного и несчастного, но настаивающего на том, что все правильно. «Да» уравновешивает «нет». Даже когда Платон предвосхищает в Калликле вульгарный тип ницшеанца, который восклицает: «Но если появится человек, достаточно одаренный природою… он освободится, он втопчет в грязь наши писания, и волшебство, и чародейство, и все противные природе законы и, воспрянув, явится пред нами владыкою бывший наш раб», – даже тогда он, отрицая закон, произносит слово «природа».
Метафизический бунт предполагает упрощенное понимание мироздания, для греков вовсе не характерное. Они не разделяли мир с одной стороны на богов, а с другой – на людей, но, скорее, различали ступени, ведущие от вторых к первым. Им была чужда идея противопоставления невиновности и вины, и они отнюдь не смотрели на историю как на борьбу добра со злом. В их вселенной ошибок больше, чем преступлений, а единственным поистине страшным преступлением является нарушение чувства меры. В мире, полностью подчиненном истории, и эта угроза в наши дни становится все явственнее, напротив, нет ошибок – есть только преступления, главным из которых считается умеренность. Этим мы объясняем странное смешение жестокости и снисходительности, которым пропитан греческий миф. Греки – и в этом мы от них отстаем – никогда не превращали философию в укрепленный лагерь. В конце концов, бунт – это всегда бунт против кого-то. Только понятие личностного бога, создателя всего сущего, который несет ответственность за все, наполняет смыслом человеческий протест. Поэтому можно сказать – и в том нет парадокса, – что в западном мире идея бунта неразрывно связана с идеей христианства. Лишь в последний, переходный период развития античной мысли идея бунта находит словесное выражение, особенно глубокое у Эпикура и Лукреция.
Новое звучание слышится уже у Эпикура с его неохватной печалью. Очевидно, она рождается из страха смерти, который не был чужд греческому духу. Но особенно показателен тот пафос, которым окрашен этот страх. «Против всего можно добыть себе безопасность, а что касается смерти, мы, все люди, живем в неукрепленном лагере». «Время приносит конец, материю всю истребляя», – уточняет Лукреций. Зачем же откладывать наслаждение на потом? «Жизнь гибнет в откладывании, – говорит Эпикур, – и каждый из нас умирает, не имея досуга». Следовательно, надо наслаждаться. Но до чего странно это наслаждение! Оно заключается в том, чтобы затыкать бреши в стенах крепости и жить в безмолвной тьме на хлебе и воде. Если нам грозит смерть, надо доказать, что смерть – это ничто. Эпикур, подобно Эпиктету и Марку Аврелию, просто изгоняет смерть из бытия. «Смерть не имеет никакого отношения к нам, ибо то, что разложилось, не чувствует, а то, что не чувствует, не имеет никакого отношения к нам». Так что же, смерть – это небытие? Нет, потому что все в этом мире материально и умереть означает вернуться в элементарное состояние. Бытие – это камень. Высшее наслаждение, о котором говорит Эпикур, сводится к отсутствию боли – это и есть счастье камня. Дабы избежать судьбы, Эпикур – впоследствии мы обнаружим то же восхитительное побуждение у наших великих классиков – убивает восприимчивость и в первую очередь душит ее первый крик – надежду. Только так следует понимать рассуждения греческого философа о богах. Несчастья людей проистекают от надежды, привязывающей их к безмолвию крепости и заставляющей снова и снова бросаться на ее стены в ожидании спасения. Эти глупые попытки лишь растравляют заботливо перевязанные раны. Вот почему Эпикур не отрицает богов – он их отдаляет, и на такую головокружительную высоту, что душе остается лишь снова замуровать себя в стенах крепости: «Блаженное и бессмертное существо и само не имеет забот, и другому не причиняет их». Ему вторит Лукреций: «Неоспоримо, что боги по самой своей природе наслаждаются бессмертием среди глубочайшего покоя, чуждые наших дел, к которым они не имеют ни малейшего отношения». Поэтому забудем о богах, изгоним их из своих мыслей, и тогда «ни ваши дневные мысли, ни ваши ночные сновидения не станут тревожить вас».
Вечная тема бунта прозвучит и позже, но с новыми смысловыми оттенками. Единственный бог, какого способен вообразить религиозно мыслящий бунтарь, – это бог глухой, никого не награждающий и никого не карающий. Но если Виньи проклинает божественное молчание, то Эпикур считает, что раз уж умирать все равно придется, то это безмолвие успешнее готовит человека к его судьбе, чем божественное слово. Любопытствующий ум изнуряет себя в попытках воздвигнуть вокруг человека стену, восстановить крепость и безжалостно задушить неудержимый крик человеческой надежды. Лишь после того как эта стратегия реализуется, Эпикур – словно бог среди людей – воспоет свою победу в торжественном гимне, знаменующем оборонительный характер бунта. «Я предупредил тебя, случайность, и отгородился от всякого твоего тайного проникновения. Ни тебе, ни другому какому обстоятельству мы не выдадим себя. Но когда необходимость поведет нас, мы, с презрением плюнув на жизнь и на тех, кто за нее попусту цепляется, уйдем из жизни, в прекрасной песне победно восклицая, что жизнь нами хорошо прожита».
Лукреций, единственный из современников, развивает эту концепцию, приближая ее к современной эпохе. В сущности, он не вносит ничего нового в мысль Эпикура. Вслед за ним Лукреций тоже отвергает любой принцип объяснения, если он не основан на чувственном восприятии. Атом – всего лишь последнее прибежище бытия, сведенного к первоэлементам, где продолжится его слепое и глухое бессмертие, своего рода бессмертная смерть, которая для Лукреция, как и для Эпикура, воплощает единственно возможное счастье. Вместе с тем он вынужден признать, что атомы соединяются не сами по себе, а потому, не желая подчиняться высшему закону и, как следствие, судьбе, которую он отрицает, Лукреций допускает существование клинамена – беспорядочного движения, сцепляющего атомы между собой. Отметим, что здесь уже возникает великий вопрос Нового времени, связанный с открытием, к которому приходит разум: избавить человека от судьбы – значит отдать его на волю случая. Вот почему разум пытается вернуть понятие судьбы, на сей раз исторической. Лукреций так не думает. Его ненависть к судьбе и смерти довольствуется той пьяной землей, в которой атомы случайным образом творят живое существо, а существо случайным образом распадается на атомы. Однако сам его словарь свидетельствует о новой степени остроты восприятия. Слепая крепость превращается в укрепленный лагерь – Moenia mundi, то есть крепостные сооружения мира, и это одно из ключевых выражений в риторике Лукреция. Да, главнейшей задачей тех, кто находится внутри этого лагеря, остается стремление задушить надежду. Но последовательное отрицание Эпикура преображается в трепетную аскезу, порой прорывающуюся проклятиями. Набожность, по Лукрецию, состоит, очевидно, «в созерцанье всего при полном спокойствии духа». Между тем при виде несправедливости, творимой с человеком, этот дух приходит в волнение. Через всю великую поэму о природе вещей проходят новые понятия преступления, невиновности, вины и наказания, вызванные к жизни возмущением. В ней говорится о «первом преступлении религии», о попранной невиновности Ифигении, о божественном свойстве «часто идти бок о бок с преступниками и, незаслуженно карая, лишать жизни безвинных». Лукреций не принимает всерьез наказание, долженствующее последовать в потустороннем мире, но его бунт, в отличие от бунта Эпикура, носит не оборонительный, а наступательный характер: с какой стати карать зло, если мы еще при жизни видим, что добро не получает заслуженной награды?
В эпическом изложении Лукреция сам Эпикур предстает величественным бунтарем, каким он вовсе не был: «В те времена, как у всех на глазах безобразно влачилась / Жизнь людей на земле под религии тягостным гнетом, / С областей неба главу являвшей, взирая оттуда / Ликом ужасным своим на смертных, поверженных долу, / Эллин впервые один осмелился смертные взоры / Против нее обратить и отважился выступить против… / Так, в свою очередь, днесь религия нашей пятою / Попрана, нас же самих победа возносит до неба». Здесь уже явственно различие между новым святотатством и античным проклятием. Греческие герои могли мечтать о том, чтобы стать богами, но лишь путем присоединения к сонму уже существующих богов. Тогда речь шла о своего рода карьерном прыжке. У Лукреция человек, напротив, совершает революцию. Отрицая недостойных и преступных богов, он занимает их место. Он покидает укрепленный лагерь и предпринимает первые атаки на божественное начало – во имя человеческого страдания. В античной вселенной убийство необъяснимо и неискупимо. У Лукреция убийство человека – всего лишь ответ на божественное убийство. Не случайно поэма Лукреция заканчивается величественной и проникнутой обвинительным пафосом картиной святилищ, заполненных трупами жертв чумы.
Невозможно понять этот новый язык, не введя понятие личного бога, начавшее медленно формироваться в восприятии современников Эпикура и самого Лукреция. Бунт способен предъявить претензии только к личному богу. При первой же его попытке заявить о своем господстве бунтарь восстает и решительно говорит ему «нет». У Каина первый бунт совпадает с первым убийством. История бунтарства, какой мы переживаем ее сегодня, – это в гораздо большей степени история детей Каина, нежели учеников Прометея. В этом смысле силой, мобилизующей энергию бунтарства, выступает Бог Ветхого Завета. И наоборот, отказываясь, как Паскаль, бунтовать, разум неизбежно покоряется Богу Авраама, Исаака и Иакова. Самый мятущийся дух больше других стремится к янсенизму.
С этой точки зрения Новый Завет можно рассматривать как попытку заранее дать ответ всем Каинам мира, подслащивая фигуру Бога и намекая на необходимость ходатая перед ним от лица людей. Христос явился, чтобы решить две главные проблемы – проблему зла и проблему смерти, которые и составляют сущность бунта. Первым делом он примерил их на себя. Богочеловек страдает и терпеливо сносит страдания. Он больше не отделяет себя от зла и от смерти – он испытывает боль и умирает. Ночь на Голгофе столь важна для человеческой истории именно потому, что в этих сумерках божество, упорно отказываясь от своих традиционных привилегий, до конца переживает страх смерти и отчаяние. Этим объясняется Lama sabactani и мучительные сомнения агонизирующего Христа. Вечная надежда облегчила бы агонию. Но Богу, чтобы стать человеком, необходимо утратить всякую надежду.
Гностицизм, зародившийся на стыке греческой мысли и христианства, на протяжении двух веков пытался, споря с иудаистской философией, подчеркнуть значение этой идеи. Известно, например, что Валентин множил с этой целью число ходатаев. Но эоны этой метафизической ярмарки играют ту же роль, что и промежуточные истины в эллинизме. Они стремятся уменьшить абсурдность встречи тет-а-тет человека в его ничтожестве с непогрешимым богом. Именно такова, в частности, роль второго – жестокого и воинственного – бога у Маркиона. Этот демиург создал конечный мир и смерть. Мы должны его ненавидеть, и одновременно отрицать его творение через аскезу, и стремиться к его уничтожению через половое воздержание. Таким образом, здесь речь идет об аскезе, вдохновляемой гордыней, следовательно, бунтарской. Правда, Маркион направляет свой бунт против низшего бога лишь затем, чтобы возвеличить бога высшего. Гностики благодаря своим греческим корням скорее искали компромисс – через уничтожение иудаистского наследия в христианстве. Кроме того, они, забегая вперед, пытались спорить с блаженным Августином – в той мере, в какой он аргументированно защищал любой бунт. Для Василида, например, все мученики суть грешники, и даже сам Христос, ибо все они страдали. Оригинальная идея, но ее цель – доказать, что всякое страдание заслуженно. Гностики просто хотели заместить всемогущую и произвольную благодать греческим понятием инициации, оставляющей человеку все шансы. Тот факт, что гностики второго поколения разделились на бесчисленное множество сект, говорит о яростных попытках греческой философии найти пути примирения с христианским миром и лишить оправданий бунт, который в эллинизме считался худшим из зол. Однако Церковь осудила эти попытки и тем самым умножила число бунтарей.
По мере того как с течением веков все более убедительно побеждало племя Каиново, Богу Ветхого Завета, можно сказать, неслыханно повезло. Как ни парадоксально, но богохульники вдохнули новую жизнь в ревнивого Бога, которого христианство мечтало изгнать с исторической сцены. Одной из наиболее дерзостных их попыток стало стремление привлечь на свою сторону самого Христа, прервав на самом пике его историю казнью на кресте и горьким криком, предшествующим агонии. Так им удавалось сохранить в неприкосновенности образ безупречного в своей ненависти Бога, гораздо лучше согласующегося с картиной мира, какой ее рисовали себе бунтари. Вплоть до Достоевского и Ницше бунт обращен исключительно к жестокому и капризному божеству, предпочитающему – без всяких мотивов – жертву Авеля жертве Каина, тем самым толкая последнего на убийство. Достоевский – мысленно – и Ницше – на практике – сверх всякой меры расширят поле бунтарской мысли и потребуют отчета у самого Бога любви. Ницше заявит, что Бог в душе его современников умер. И тогда, вслед за своим предшественником Штирнером, он предпримет атаку на иллюзию Бога, застрявшую в его веке под видом морали. Однако до них вольнодумцы ограничивались отрицанием истории Христа («этот пошлый роман», по выражению де Сада) и поддержкой, даже в своем отрицании, традиции грозного Бога.
Пока Запад оставался христианским, Евангелия, напротив, играли роль посредника между небесами и землей. Каждому крику одинокого бунтаря противопоставлялся образ еще горшей боли. Раз Христос страдал, тем более добровольно, то никакое иное страдание не может быть несправедливым, а всякая боль изначально справедлива. В некотором смысле горечь христианской интуиции и ее законный пессимизм в отношении человеческого сострадания объяснялись тем, что человека равно устраивает как всеобщая несправедливость, так и бесконечная справедливость. Только жертва безвинного Бога могла оправдать долгую и творимую повсюду пытку невиновности. Только страдание Бога и его уничижение могли облегчить человеческую агонию. Если все на свете, и на земле и на небесах, обречено на страдание, то становится возможным достижение странного счастья.
Но начиная с момента, когда христианство по завершении периода своего триумфального распространения подверглось критике разума – в той точно мере, в какой отрицалась божественная сущность Христа, – страдание вновь стало человеческой участью. Поверженный Христос – всего лишь еще одна безвинная жертва, подвергнутая представителями Бога Авраама показательной казни. Вновь разверзается бездна между хозяином и рабами, и бунтарь снова вопиет перед глухой стеной ревнивого Бога. Этот разрыв подготовили вольнодумно настроенные мыслители и художники, с обычными предосторожностями атаковавшие мораль и божественную сущность Христа. Хорошо передает этот мир вселенная Жака Калло – одурманенные ничтожества начинают с хихиканья в кулак, а заканчивают Дон Жуаном Мольера, бросающим вызов небесам. На протяжении двух столетий, готовивших революционные и богохульные потрясения, с конца XVIII века вольнодумцы стремились превратить Христа в невинную жертву, в простачка, чтобы связать его с миром людей во всем их благородстве и ничтожестве. Таким образом они расчищали путь для великого наступления на враждебные небеса.