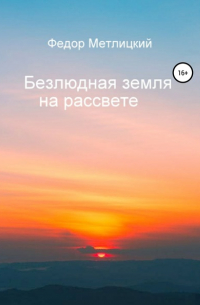Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
И в этой бутылке у Ваших стоп,
свидетельстве скромном, что я утоп,
как астронавт посреди планет,
Вы сыщете то, чего больше нет.
Человек приходит к развалинам снова,
всякий раз, когда хочет снова любить…
Ничего нет страшней, чем развалины в сердце…
И. Бродский.
1
Мы, команда астронавтов, ученые-исследователи и «подопытные» туристы, возвращались из глубин космоса, но были задержаны на геосинхронной орбите на неопределенное время: на Земле случилась какая-то беда.
Команды с Земли возвращаться не было, связь просто вырубило, или никто не отвечал. Только услышали странный обрывок фразы: "Людей больше нет…"
Мы спустились на третью орбиту, вращались на границе космоса и земной атмосферы. Вглядывались в планету, которую накрывали светлые мазки облаков. Не было понятно, что там происходит.
Атомная война? Вряд ли, всем давно стало ясно, что это равносильно самоуничтожению, ядерной зиме и изменению климата. Тогда что? Упал астероид? Взорвался супервулкан? Нападение инопланетян? Вроде бы нет, мы бы засекли. Бунт искусственного интеллекта, когда приобретшие самостоятельное сознание роботы, себе на уме, что-то замыслили? Нечто гораздо хуже пандемии коронавируса – всемирный мор, болезнь «Х»?
Темный космос с неподвижными огоньками звезд за иллюминаторами, полный безысходного одиночества, показался еще темнее.
Я, организовавший группу космических туристов из моего общественного объединения, не мог даже подумать, что случится нечто такое. Что же будет? Никогда больше не встречу семью? Что-то тяжелое наваливалось на меня, утягивая в бездонное космическое одиночество.
Что такое была самозабвенно занятая собой жизнь на Земле, кровавая борьба за власть и лучшее будущее, да и сама история людей. Неужели смысла жить больше не будет? Проблема смысла исчезла, и если кто останется, вроется в землю, чтобы только дышать.
Мои приятели, обычно спорящие о путях развития цивилизации, сейчас примолкли. Неужели путей развития больше нет? Даже не унывающий исследователь-экспериментатор Марк Петров, с обиженным, но решительным выражением лица, вдруг увидел, что мы одни, – между бездомным космосом и, наверно, исчезнувшим человечеством. И впервые усомнился, был ли смысл в его непримиримости к существующему положению вещей, словно оно было вечно.
Ученый-исследователь и мой друг Павел, по прозвищу Отшельник, со смешными узко стоящими глазами над большим носом, стоически-кротким выражением лица, медлителен, и всегда погружен в свои мысли.
Еще один исследователь на космической станции Майк, американец – новенький, с иголочки, как Джеймс Бонд, даже если бы вылезал из грязи, был как всегда чистым и энергичным, сейчас возбудился перед открывшимися неведомыми прериями. Он был практикантом на космической станции, уже обтесался среди нас, отъявленных русских, перенял наши обычаи за время общения.
Космический турист, сельский труженик Петр, укорененный в большой семье, тяжело думал о своих родных, увидит ли когда-нибудь жену, детей, внуков и правнуков.
Мой бухгалтер Михеев, узколицый, с невзрачными глазами, легкой фигурой похожий на мальчика, метался, летая по станции и натыкаясь больно лысиной о какие-то ребра и приборы, и поражался сам себе:
– Кто-то, ведь, распорядился, чтобы мне увидеть этот чудесный свет, жизнь эпохи! Неужели могу прекратиться?
Он внушил себе мысль, что может излечить свой остеохондроз невесомостью, снимающей нагрузку на кости, по изобретенной им методике.
Всеядный журналист Юдин усмехался: ничего особенного: если что-то случилось на земле, то, ведь, останется кто-то из человечества. Оно бессмертно, как бактерии, существующие и на других планетах.
Казалось, мы прибыли из бесконечного вращения в каких-то космических сферах. Время там, в томительно медленном течении, на самом деле было мгновением для земного организма, почти неподвижным для возраста, в то время как там, на Земле, по измерениям приборов, время шло гигантскими шагами. Мы были свежи, как будто совсем недавно улетали.
От долгого ожидания занимались космодайвингом, облачившись в скафандры-космолеты с личным космическим аппаратом – жаро- и холодопрочными доспехами с кирасой, похожими на средневековые, с отдельным автономным жизнеобеспечением, тормозным парашютом, соплами двигателей за спиной и на перчатках для управления полетом, что позволяло даже самостоятельно приземлиться. Но летать вне станции в пустоте космоса, не переходя рискованный круг расстояния, было слишком нудно.
И, наконец, решили без приказа снизу возвращаться на Землю.
Звездолет влетел в какие-то первобытные заросли, где не ступала нога человека. А вдали полыхала земная утренняя заря.
Мы вышли, неверными шагами опустились на незнакомую девственную поверхность – в заросли древесного кустарника, одичавших садовых растений и высокой влажной травы. Вдали возвышался огромный сосновый лес, словно выросший в результате радиации. Лес и трава, мне казалось, лишились своего натурального вида и наименования, в них просвечивало что-то длинное, как математическая формула, своими корнями нисходящая в космическое пространство. И в то же время пугающий лес высотой с небоскребы внушал надежду, что он вечен, и будет вечной планета Земля, в которую он врос.
Слева на заре виднелся город на горе, в центре с кремлем, обнесенным кирпичными стенами, внутри которого возвышался дворец и высокая церковь со шпилем.
Мы продирались на маленьком вездеходе сквозь дикую чащу зарослей куда-то в утреннюю зарю, пугаясь шумящей угрозы огромного темного леса, медленно надвигающегося на нас. Но заря оставалась так же далеко, когда мы въехали в город.
В городе было пусто, но здания современные, хотя обветшалые. Вверху, в небе не было теплого зарева от электрических огней, хотя уже вечерело. Дома обвиты лианами, выглядывали из зарослей, как заброшенные древние капища индейцев. На город наступала непроходимая чаща.
– Так мы вернулись домой? – вопрошал растерянный Михеев. – Не в первобытное время?
– Вроде бы, ошибки не допустил, – сказал Марк.
Нет, это не время дикарей. Марк, наш специалист, проверил: на Земле сейчас конец XXI века!
Пошли по пустынной улице, опасной, как будто новый вождь, возвысившийся над всеми, одинокий во всей вселенной, едет по очищенному от зевак центральному проспекту на инаугурацию.
Никого не было на улице, покрытой плиткой, девственно чистой, словно клалась на века, на обочинах заросшей травой и лопухами, со стертыми рекламными надписями под подошвами.
Через высокие ворота вошли в древний кремль, обнесенный высокой каменной стеной пятиметровой толщины, обшарили внутри каменные дома с кельями, нет никого.
2
Цивилизация оставила нам многое для сносного проживания. Мы поселились одним кланом, в пустующем кремле, в кельях с белеными сводчатыми потолками. Собирались в большом зале тоже со сводчатым потолком, и полами, покрытыми цветной плиткой. Наверно, эта был зал для коронации.
Однако не работали туалет и душ, не было воды, электричества, как в древние времена, хотя здесь в последнее столетие все было оборудовано. Блэкаут, когда весь мир одновременно погружается в сплошной мрак, и отключается сама жизнь. Дело не в том, что исчезли все специалисты, кто должен был привести в движение все блага цивилизации. Цивилизация просто развалилась, как после всемирного, уничтожающего все, цунами.
Первые дни мы спали вместе в палатах дворца на огромном, видимо, царском ложе, прижавшись тесной кучкой от холода и не раздеваясь. Экипаж астронавтов, Марк и я были одеты в обогревающие серебристые комбинезоны, остальные, одетые в разношерстную одежду, наворочали на себя шерстяные одеяла.
Осознание происшедшего пришло не сразу. Иногда ночью я вскакивал: опоздал! Куда, на работу? Во мне жило прежнее чувство ответственности. Потом забывался, ощущая чувство голода, надо бы сходить за едой, и вдруг доходило: надо мной нет никакой цивилизованной скатерти-самобранки – идти некуда! Все добывать надо ногами и лихорадкой мысли, где – в той, рядом, темной глубине грозно шумящего леса?
Недели прошли, чтобы мы могли увидеть и вообразить, что произошло на Земле. Если в древности знали мир не дальше видимого горизонта, то мы теперь предполагали, что за горизонтом нет ничего живого.
Мы оказались в другом, природном мире с искусственными развалинами, словно созданными инопланетянами, выброшенные из родового общежития. И только сейчас поняли, что история человечества была нам родной, как океан рыбе, выброшенной на песок. Никогда не думали, живя в будничной суете, любя и ревнуя, переживая блокады и лагеря, – что то был наш родной, выстраданный мир, а без него нас не существует.
Наш космический корабль, приземлившийся где-то далеко, погряз в зарослях, и трудно было найти, тем более жить в нем на отшибе.
____
Тревожно шумел огромный темный лес, заслоняющий небо, его зловещие ряды верхушек покачивались, как лохматые шлемы мистических великанов, как будто медленно приближавшихся к нам. Выл ветер, вызывая страх и одиночество.
Ночью все тело пронизывало холодом, хотя я был одет в обогревающий комбинезон, даже под несколькими одеялами. Все мы думали о родных. Куда они исчезли, вместе с остальным человечеством? Что это за мор? Или пожрало время? Остался ли кто из родственников?
Исчезновение или смерть родных казалась и нашим концом, без надежд на продление жизни.
Особенно переживал Петр, потеряв всю свою семью. Он родился в большой крестьянской семье, и не мыслил, что когда-нибудь останется один. Работал комбайнером, потом выучился на агронома, зарабатывал хорошо. В свое время женился на здоровой надежной девушке с пышной грудью, незаметно народил сыновей, да еще взял из детдома приглянувшуюся девочку. Дом был полная чаша. Дали землю, и он построил двухэтажную дачу, вскоре разросшуюся пристройками, кухней, сараем и уборной. И вся их жизнь проходила в уюте детских криков и хлопотах по хозяйству, шумных переездах на дачу. Его мало интересовало, что происходит в мире, это было не главное. В нем совсем не было одиночества, оно было вытеснено всем его разросшимся корневищем, надежно вросшим в планету.
Мы с женой, соседи, завидовали им.
Он всегда был здоровым, толстым и солидным, а сейчас опал до неузнаваемости. Перестал стричься и бриться, выглядел дедом с седой бородой. Оказался один, словно его родню вмиг срезало что-то необъяснимое, и чувствовал впереди пустоту, и нечем было жить. Он никогда не думал, что смертна его обширная родня, и он сам. Зачем было думать о пустом? В его жизненной силе сибиряка, не знавшего сомнений в нужности родной стране, – все были в строю, все ответственны за свое дело. Его охватило такое одиночество, что он не мог жить, и сидя на кровати бессмысленно качался, схватившись за сердце. Надвинулось – беспросветной тучей, равнодушие старости, когда уже не откликаешься даже на память.
Я лежал калачиком, укрывшись от мира одеялом, чувствовал себя пожившим ребенком, усталым детским взглядом видя потускневший мир. Засыпал, ощущая свое исхудавшее тело, боль подвернутой ноги, и бессмысленность биения сердца.
Проснулся, задыхаясь. Сразу возникала боль, отключающая сознание, когда просишь только – кого, бога, близких людей? – помочь, и знаешь, что никто не сможет помочь. Надо «сливать воду». Что меня держит, чтобы жить?
Я вспоминал скорбное лицо жены, готовой ко всему, всю ее родную суть, вылежавшуюся в душе за годы ее опеки надо мной, так, что нельзя оторвать. Зачем-то вспомнился ужас, когда наша маленькая дочка осталась одна в квартире и закрыла изнутри дверь, и мы не могли прорваться. Я пролез из окна пятого этажа на четвертый на веревке. Увидел замурзанную от слез ее рожицу, просидевшую одна три часа. Без штанов, рубашечка надета вниз воротничком. Написала в штаны, сняла их и бросила в ванну, а туфельки – аккуратно на стул. Бегала босиком, разбросала семена. В общем, веселилась, пока не поняла, что папы с мамой нет.
И вот их нет, а я живу.
Когда-то случайно встретил ее в институте, молодую и светящуюся будущим счастьем, и мы сразу ощутили себя родными. Это внезапное раскрытие друг другу нас, родство незнакомых было странным, словно мы знали друг друга с детства. Неужели это присуще только связи мужчины и женщины?
Зачем надо было строить целую жизнь с женщиной, хотя и встреченной случайно? Безоблачное счастье – это сиюминутное блаженство, а дальше начинается жизнь. Нет такой любви, которая бы поглощала целиком. До конца близкими мы не могли быть. Хотя бы потому, что у каждого свой организм, и его болезни каждый переносит сам, да и умирание перемогает сам, и это разделение неустранимо. Мне нужен был выход в безграничный утренний мир. Там я не был одинок!
Но жизнь оказалась совсем другой, полной тяжелых испытаний. А сколько было других переживаний, ревности из-за, якобы, моих измен, и страха нищенства! И всегда она держалась с достоинством, с решимостью вынести все несчастья.
Жена была для меня естественной необходимостью. С семьей легче было пережить крах моей общественной деятельности, о чем скажу позже. И снова пронзило: твое внутреннее благородство и красоту никто никогда толком не почувствует, об этом знаю только я! И унесу в могилу один. Как и другой знает самое лучшее в родных – только он.
Но теперь, в мириадах смертей это уже казалось не важно.
Во мне было чувство личной катастрофы, когда стремительно уходит вдохновение, метафоры не взлетают из натурально видимых вещей, в памяти исчезают нужные слова, имена, остается лишь некий ржавый остов опыта. Все, что буду делать дальше, это зачем-то поддерживать свои жизненные силы, приближаясь к животному существованию. Жить в состоянии овоща, из которого не хочется вылезать.
____
Мы словно оказались в квантовом мире, где пространство и время свернулись. Время остановилось, и стали видны его атомы, как застывшие песчинки в песочных часах. Но было живо и болело то, что нас создало, когда смотрели на фотографии предков, исчезнувшей родни, болело и от памяти о погибшей цивилизации.
Но почему-то во мне живет, впервые увиденная в младенчестве, заря над полем, в первой измороси, а за бугром поля чудится первозданная земля. Древних египтян, греков или римлян, или начала времен? Удивительно, меня поддерживает некая надежда на невероятные возможности нового начала истории.
Почему я пишу эти записки? Мнение, что это помогает разобраться в себе, выложить все свои пороки и горести, чтобы вытеснить боль, – не совсем верно. Легче не становится.
Космическое питание, герметические упаковки и тюбики, закончилось. Мы впервые узнали, что такое голод. Древнее ощущение голода, когда исчезает сознание, и все существо стремится к одному – насытиться, или произойдет что-то ужасное. Я увидел, что руки и ноги стали опухать. Сосало в желудке невыносимо, мы метались по пустующим магазинам, чтобы найти хотя бы какое съестное.
Ели то, что еще обнаруживали в оставленных магазинах, собирали съедобные дикие растения, клевер, лебеду для супа, крапиву, хвою, цветы, ягоды бузины для заварки чая, отваривали желуди. Ели молодые нежные побеги горчицы белой, первоцветы примулы, одуванчика, цикория, дикий щавель и гречиху, нестрекальную крапиву, подорожник, похожие орехоподобные клубни съедобной сыти, тростник (богат сахаром).
Я бродил по заросшим растениями улицам, после долгого сидения «дома», если так назвать холодный, без света дворец, ноги были ватными, словно отсидел, шел тяжело. Вокруг не было ни души. Глухо шумел лес, возвышавшийся недалеко.
Странно, не было звуков, что были привычными раньше: гула городской цивилизации, проезжающих машин, голосов радио и телевидения, просто человеческих голосов. Город словно вымер, как прокаженный. Возникал жуткий холодок вселенского одиночества.
Жуть дополнял высившийся вокруг города лес, как-то неестественно разросшийся, в преувеличенно больших размерах и ярких красках, наступавший как хозяин. Природа была предоставлена самой себе, и медленно выздоравливала. Наверно, человек был врагом природы.
Я продирался сквозь заросли, которыми были покрыты улицы. Родные названия улиц, что можно разглядеть по табличкам: Благовещенская, Болотная, Варварка, Столбище, Земляной вал, Красная… Они менялись веками, как реки, меняющие русла, а сейчас остановились и заросли. Но в них есть нечто постоянное – воспоминания о дорогом прошлом.
Сквозь асфальт улицы, весь в трещинах, вырывались зеленые побеги, здания по пояс в листве, колоссы-лианы вьются по стенам, как на оставленных после взрыва атомных станциях в Чернобыле или Фукусиме.
Заглядывал во все продуктовые магазины. Везде было пусто, не было даже испорченной от времени пищи, словно кто-то уже здесь пошарил.
В очередном магазине тоже было пусто, кругом пыль, и ни одного продавца. Но внутри было все прибрано, как русская изба перед тем, как деревня исчезнет с лица земли. Здесь я нашел в кладовой остатки консервов, видимо, заготовленных в прежние времена как стратегический запас, без мысли о таком будущем.
Долго стоял у кассы, а потом открыл ящичек в кассе, инстинктивно вложил туда завалившиеся в кармане деньги и вышел.
____
На окраине города мы вдруг увидели человека! Он выбегал из пустующего магазина с мешком. Заросший густой бородой, он был испуган, выглядел каким-то опущенным. На нем сермяга, успешно заменившая ненужные поветрия мод. Осталась самая необходимая потребность закрыться от холода.
Он беспрерывно и ненасытно почесывался, и не мог перестать, даже когда наткнулся на нас. Успокоился, у нас был мирный вид. И рассказал о себе. После нагрянувшего неизвестного мора и смертей он выздоровел, – видно, врожденный иммунитет, но от чего? Сколько миллиардов умерли, кому считать? Тот выживший, кто захочет считать, все равно соврет.
Он чувствовал себя, как на американских горках, – то эмоциональные подъемы, то утомление. Сошел с ума? Кто-то чужой влез во все поры его организма, и перестраивает, модифицирует, отлаживает его под себя. Тело живет по другим, неизвестным до этого правилам. Кто – «Я»? Кто – «Оно»? Это происходит в форме чесания, вот почему он не может остановиться. И нет обоняния: еда – ничем не пахнет, водка – как вода.
– Чувствую себя трансформером! – причитал он. – И никто не может объяснить, что случилось на земле. Специалисты вымерли.
Когда-то в молодости он окончил художественный колледж, и внезапно случилось это – всемирный мор. Осталось мало людей, оказавшихся с неким иммунитетом. Сейчас он, на всякий случай, поклоняется Перуну, идол которого кто-то поставил в близлежащем лесу.
– Как выживаете?
– Живу в землянке, сам вырыл. Пока забираю, что осталось, в магазинах и на складах.
Как мы выяснили, он встречал одиноких бродяг, которые забегают в пустующие магазины, находят в неизвестных ему складах консервы, заготовленные в прежние времена как стратегический запас.
Мы предложили ему присоединиться к нам, и он с облегчением согласился. Его стали называть Трансформером.
____
Мы, сбившись маленькой кучкой, сидели за длинным столом в огромной столовой. Марк вздохнул, и заговорил иронически, словно со стороны:
– Итак, история как борьба противоположностей закончилась. Только теперь становится понятно, что не мы боролись межу собой, а мириады микроорганизмов внутри нас, из которых мы состоим, борются за свое выживание. Неужели это не наш путь, людей свободной воли, а путь независимых бактерий или вирусов, которыми мы набиты, и это они руководят нами и борются за свое выживание в природе? Видимо, спасительные для нас организмы проиграли, вирус победил, и случился мировой мор.
Павел добавил:
– Гуманисты, а также религиозные люди ощущали любое колебание земли как грядущее зло, от дьявола. Мы уже не можем переключить наше состояние на такую эмоциональную, нравственную основу, – открылся лишь безучастный разрушительный ход природы.
– Это все мировой заговор, – пожаловался Михеев. Он верил в мировое зло, которое уничтожило человечество.
Михеев открыл ножом принесенные мной и разложенные на столе консервные банки – сгущенку, консервированное мясо (одно желе, без мяса, мухлевали почившие!), мои любимые скользкие ломтики персиков.
Юдин поморщился:
– Сейчас бы кассоле в баночках.
Михеев отрезал:
– Жри, что дают. Или можешь съездить в Париж и поесть там, если не прошел срок хранения. Я в детстве голодал в карантине, ел, что приносили волонтеры, их тогда много развелось. Подъедал на тарелке все, чтобы при мытье посуды не засорять раковину.
– И экономил туалетную бумагу, – сказал Марк. – Отрывал достаточно мелкие кусочки, дырочка-то маленькая, зачем ее на всю жопу.
– А что? – весело утерся Михеев. – Я экономен с голодного детства, подбираю крошки с тарелки. И потому стал скромен в потребностях.
Я добавил серьезным тоном:
– Ему удобно казаться нищим – ни он никому, ни ему ничего. Так скромен, что когда умрет, никто не заметит.
– Да, я такой, – ерничал Михеев.
Трансформер деликатно ел, почесываясь.
Петр ел молча, угрюмо слушая.
Иностранец Майк, как всегда чистенький и причесанный, оглядывал русских с интересом и удивлением.
____
Мы отдыхали в спальне палат дворца, лежа вместе на царском ложе. Философ Павел Отшельник, кутаясь в тряпье, тяжело вопрошал:
– Это что же, цивилизация свернулась в свое начало? Как мало надо времени, чтобы быстро исчезло поветрие моды, и вернулись сермяги, защищающие не от стыда, а от холода. Самые необходимые потребности! Наверно, сознание может быстро вернуться в первобытное или средневековое, полное мифов. Хотя мы и в бывшей империи XXI века, исчезнувшей с лица земли, жили в мифах и с убеждениями, весьма поверхностными, вроде страха от вражеского окружения. Нет, масса не овладела последними знаниями, а только сохраняла видимость.
Марк, в греющем космическом серебристом комбинезоне, зло сказал:
– У нас сознание и не возвращалось из первобытного или средневекового, полного мифов. Живем в такой же темноте, как и древние, только на другом уровне, внешне овладевшие современными знаниями.
– В отличие от древних, мы смотрим глазами атеистов, – возразил я, – то есть не демонизируем буквально все окружающее, шарахаясь в страхе, а отдалили божество куда-то за пределы открытого нами мироздания.
Марк сухо отвечал:
– Нет, мы остались недоучками и неучами, прислоняющимися к своему дохристианскому или византийскому Идолу.
– Неужели и здесь останемся теми, – встрял Юдин, одетый в добытый им где-то элегантный костюм – кто питался фейками, как рой ос, жаля нашу страну?
И мстительно продолжал:
– Сбили гражданский самолет, а они: «Это она, агрессивная страна!», – немедленно, не ожидая расследования, кричали одни. «Агрессор вмешивается в наши выборы!» – кричали другие. «Пандемию создали в лаборатории империи зла, преднамеренно, чтобы погубить мир!» «Разве агрессор подарил нам лекарства от пандемии? Что вы, продали! Некачественные, и втридорога!» «Диктатор уничтожил 50 миллионов в лагерях!». После этих фейков нечего было надеяться, что внушенные люди не побьют любого туриста из оболганной страны.
Михеев нелепо влез.
– Или мы побьем! Ничего не изменится, пока не победим.
Когда-то, сидя напротив меня в правлении нашей экологической организации, он негодовал, глядя в телевизор.
– Опять Запад вмешивается, подкупает оппозицию нашей братской соседней республики! А внутри либералы заваривают новый майдан.
Он принимал мир враждебным нам, и в его слепящем свете не мог бы, если бы и хотел, различить ведущие его силы.
Сидя отдельно, с прямой спиной, Майк сказал:
– Gentlemen, сейчас уже видно: all the people were the same (все люди были одинаковыми).
Во мне же застряла одна и та же мысль:
– Что такое была пропавшая цивилизация, гены которой сохранились у нас, спасшихся? Ее культура, наука, литература и искусство? Почему они не спасли человечество?
– Какая культура? – сел на ложе Михеев, отбросив за тонкую шею конец одеяла, как древний римлянин. – Я ее толком не знаю.
Почему так случилось? – думал я. – И повторится ли вновь, пока не исчезнут остатки человеческого рода, и миром окончательно овладеет неведомый вирус?
Уход из прежней искусственной и порочной жизни Льва Толстого, его персонажей Отца Сергия или Федора Кузьмича бледнеет перед нашим расставанием с прежней цивилизацией. Воспоминание о пропавших родных превращалось в светлый полет памяти. Действительно, они превратились в белых журавлей.
И мы сами словно пережили смерть. И, может быть, сами превратились в белых журавлей, ищущих пропавшую родину?