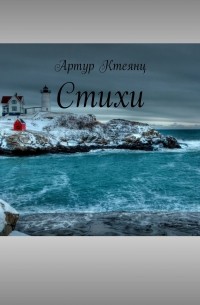Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
© Артур Ктеянц, 2020
ISBN 978-5-0051-1456-3
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
«Подключи меня к этому небу…»
«Мой Санта, для того, чтоб ты пришел…»
Маме
В детстве всё было ясно:
варенье – пир, садик – тюрьма,
убивать насекомых – грех.
Там, где кончается коврик – кончается мир.
Мама – вселенная, папа – сильнее всех.
Помнишь, мы ждали зиму,
под Новый год,
только поющее сердце поймет,
откуда
эта уверенность – скоро случится чудо,
небо на Землю во всей полноте сойдет.
Может быть в это время
в безлюдном храме,
Дух отражался в прозрачной
святой воде,
и мы ничего не знали
о той звезде,
что повела за собой
пастухов с волхвами.
Одному сказочнику
Покажи мне начало жизни в одной строке,
Лабиринтами книжек на ощупь веди к истокам,
Где пустыня оправдана тем, что не знает пророка,
И еще Иоанн никого не крестил в реке.
Расскажи, почему ты придумал хрустальных пчел
И безликую ведьму, способную быть слабой,
Я не плакал над книжкой давно, а теперь, как баба,
Как плаксивая баба рыдаю в твое плечо.
Ведь последняя сказка, которую ты написал,
Будто в поисках рифмы в моей голове кружит,
Если в тексты уходишь как в проклятые леса,
Даже страшно спросить: «настоящая жизнь – хуже?».
У тебя целый город спустился на дно реки,
Одинокий башмачник медведя убил руками,
Белый клин журавлей из бумажного оригами.
У меня ничего не пишется от руки.
Каждый день я иду за тобой в холодину храма,
Литургия, иконные лики глядят из мрака.
Начинаем с нуля, Авраам родил Исаака,
Остальное тебе перед сном говорила мама…».
Иногда я пишу тебе письма
с пометкой «в ад»,
где густые туманы
стекая в осенний сад,
переходят на шёпот,
кода о тебе говорят:
«нам доверили тайну,
хотя, мы ещё не в теме».
Я сижу, как бродяга,
один в ледяной ночи,
говорят, ты совсем недавно
была в Керчи.
Твоё имя, настойкой полыни
во рту горчит,
так и хочется крикнуть:
«пошла ты, ещё не время».
Ты за руку проводишь святых
к своему венцу,
потерявшие мать, каждый вечер
звонят отцу,
если честно, то этот октябрь
тебе к лицу,
а с другой стороны,
ну кому не к лицу октябрь?
А.К
Поговори со мной о тех местах,
Где солнце отражается в крестах,
И колокол звучит по наши души.
Еще ненапечатанный роман,
Пытается свести меня с ума,
Скажи мне, чтобы я его не слушал.
Поговори со мной о чудесах,
О том, как ночь, качаясь на весах,
Осенним утром оголяет спину,
Напомни, что Господь непобедим,
Что мы весною в Грузию летим,
Искать равноапостольную Нину.
Скажи мне в сотый раз, что смерти нет,
О том, как дышит текстами поэт,
Как старое пальто снимая кожу,
Где сеятель разбросил семена,
Идет война, давно идет война,
И мы с тобой сражаемся, как можем.
Представь себе открытый океан,
Где старый китобой с бутылкой рома,
Мечтает снова оказаться дома,
И видит дочь сквозь утренний туман.
Она идёт по водам, так легко,
Как шел апостол к своему мессии,
И это так пронзительно-красиво,
Идти «сквозь ледяную цепь веков».
– Но как поверить мне глазам своим,
По водам ходишь, значит ты святая?
– Нет. Я, всего лишь провожаю стаю,
Мы ищем Новый Иерусалим.
Отец, Киты, которых ты убил,
Мне подставляют порванные спины,
И мы плывём сквозь темные глубины.
Плывём, отец, к такому Рождеству,
Где прозвучит: «не бойтесь, только верьте».
Здесь, постепенно привыкая к смерти,
Я начинаю думать, что живу.
Милая, этой зимой, в больших снегах,
Мне повстречался кочевник с прозрачной кожей.
И вот теперь я знаю того, кто может
С помощью имени уничтожать «врага».
Больше семи веков он совсем один,
Ищет ещё неназванных на планете.
Он в палестинских пустынях бродил, как ветер
И наконец, добрался до вечных льдин,
Чтобы в пределах своих ледяных чертогов,
Мертвой реке прошептать: «ты ещё жива».
Он и предчувствие может одеть в слова,
Так появилось холодное слово «тревога».
Больше никто не верит смешным приметам,
Каждый теперь отмечен своим венцом.
Просто безликий мир приютил поэта,
И в благодарность за это обрёл лицо.
То, что рождало на сердце густой туман
И превращало ливанские кедры в плаху,
Он иногда называл первобытным страхом…
Милая, мне бы о нем написать роман.
Он рассказал мне историю мира вкратце,
И несмотря на то, что грядет война,
Я назову твои страхи по именам,
И больше нечего будет тебе бояться.
Она говорит:
«Мы построим корабль бумажный,
Сплетем паруса из клубка паутинных нитей,
Ведь мы же мечтали в открытое море выйти,
Есть только вино и стихи, остальное не важно.
Ты только пиши, что бы ни было там, пиши,
Создай человека в тумане графитной пыли,
И если в ответе за тех мы кого приручили,
Позволь мне остаться в пределах твоей души.
А помнишь, ты мог поворачивать время вспять?
Скажи только, я принесу карандаш, бумагу»,
А мне бы «Старик и море» перечитать,
И научиться мужеству у Сантьяго.
Она говорит:
«Нас такими придумал Бог,
За вычетом частного ада – мы воины света,
До встречи с тобой я жила за плечом поэта,
Которого бесы буквально сбивали с ног.
Не бойся, я буду с тобой до последних дней,
Ты только не думай о смерти, забудь о ней.
Когда мы навстречу шторму пойдём вдвоем,
И темные воды придут за своей наживой,
Ты просто напишешь два слова: «остались живы»,
Всего лишь два слова, и мы никогда не умрем.
Думаешь ты в безопасности?
Мятный чай,
Свитер с оленями больше на два размера.
Знай же – на книжной полке, спиной к Гомеру,
Томик стихов просыпается по ночам,
И шелестит страницами. в тонком сне
Он говорит с тобой только о самом важном,
Слышно, как борется сердце его отважно
С глубоководным текстом, на самом дне.
Каждую ночь ты общаешься с тем поэтом,
Но просыпаясь не помнишь уже об этом.
Не попади в эти ритмы при свете дня,
Можешь рассыпаться мелкой гранитной крошкой,
Несколько лет эта книга жила у меня,
Только теперь я живу под её обложкой.
Вот, например, Тициан написал Данаю,
Не понимаю, слышишь, не понимаю,
Как я однажды пропал, зацепился взглядом,
Вот и тебе говорю, не читай, не надо.
Эти стихи внутривенно в тебя войдут,
И постепенно станут составом речи,
Это как будто надежду иметь в аду,
Где ни пространство, ни время уже не лечат.
Это когда на вопрос: «а чего ты плачешь?»
Будешь качать головой и шептать: «не знаю»
Верь мне, там каждая строчка чего-то значит,
Вспомни, что я говорил тебе про Данаю,
Я прилечу к тебе знаками из огня,
Пусть даже в этих местах запретят полёты,
Мы обязательно встретимся за переплётом,
Не заходи в эти воды, дождись меня.
Всё меняется, милая, даже в кромешном аду,
Появляется свет, и трепещут суровые бесы,
Я иду к тебе, слышишь, по темным дорогам иду,
Совершенно один, в окружении мертвого леса.
Говоришь, первобытный за нами отправился страх,
И, возможно, вселенная больше не выдаст ни знака,
Почему тогда ведьмы горят на высоких кострах,
И старик Тарантино сидит у плиты Пастернака?
За меня не волнуйся, сквозь ветки виднеется небо,
На ночную тропинку рассыпалась звёздная крошка,
А ещё есть немного анисовой водки и хлеба,
Деревянные чётки и Брэдбери в мягкой обложке.
Сколько раз ты ныряла за мною на самое дно,
Находила живым в лабиринте разрушенных зданий.
Я несу тебе, милая, лучшее в мире вино,
И какие-то пряности – в жизни не вспомню названий…
Письма из Армении
Любимая, здесь солнце как огонь,
Под окнами река и кипарисы,
Покуда ночь в чернильные кулисы
Не опускает мягкую ладонь,
Я не пишу ни строчки, только тьма,
Даёт необходимую отвагу,
Чтобы марать невинную бумагу,
Как верный способ не сойти с ума.
Придумав оправдание словарю,
Что круг общения оказался узким,
Теперь я только думаю на русском,
При этом, ничего не говорю.
Очертит горизонт в стекле оконном
Мой буквенный корабль давший течь,
Я постепенно покидаю речь,
И становлюсь лексически бездомным.
И муза (эта хитрая транда)
Почувствовав внезапную угрозу,
Заставила меня зарыться в прозу,
Иначе не закончу никогда
Роман, что поедает изнутри,
При помощи бессонницы и граппы,
Он разделяет ночь на два этапа,
И это так красиво, посмотри.
Я как-то отвык от рождественских снов, а нынче,
Проснулся и помню: светильник, графит, картинки.
Мне снилась сырая тюрьма в иллюстрации Линча,
Где узкие окна неспешно вдыхают снежинки.
Он пишет метели, засыпанный снегом ельник,
Где с помощью ластика можно стирать века,
Он в реку бросает лёд, и молчит река,
Как мир замолкает на время в святой сочельник.
Родная, там добрый охранник с зашитой бровью,
Принес мне письмо, на котором твоя печать.
Ты руку порежешь, а я истекаю кровью,
Ты плачешь над книгой, а мне тяжело дышать.
Там хрупкий морозный воздух парил в окне.
В разбитых ботинках, прижавшись к сырой стене,
Я был абсолютно счастлив крупинкам снега,
Как будто бы это ты написала мне.
Литвиновичу
Мы знакомы, Ван Гог, уже несколько тысяч лет,
И чего только не было: войны, чума, потопы.
Помню, кельты вторгаются в Западную Европу,
А у нас разговоры: «Исайя и Ветхий Завет».
Я люблю вспоминать это время, где каждый день,
Для того, чтобы выжить, смиренно идёшь по краю,
Нас учили охотиться лучшие воины Майя,
И под лёгкими стрелами падал в траву олень.
Было много морей, островов и ночных дорог,
Перед тем как попасть в пустыню, где жил пророк…
Наши спины тогда обжигал Палестинский зной.
Помнишь жаркое утро? Песок и горячий ветер.
Мы сидим у причала и чиним большие сети,
А Господь говорит Андрею: «пойдем со мной».
Мы оставили лодки и были повсюду с Ним,
Больше тысячи дней, а потом Он ушел на небо,
И отныне Он с нами в любом преломлении хлеба,
Со слезами в глазах оставляющий Ершалаим.