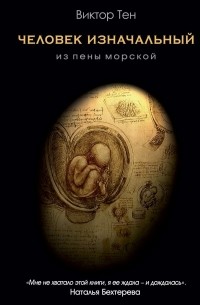Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
Роль труда в театре абсурда
В 1925 г. в Москве был впервые в мире опубликован неоконченный труд Ф. Энгельса «Диалектика природы». Отрывок «Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека» казался убедительным теоретическим завершением теории эволюции «по Дарвину», который сам высказывал подобные мысли о роли труда. После этого выражение «труд сделал из обезьяны человека», применяемое в самых разных контекстах (например: «…а ты, лодырь, скоро превратишься обратно в обезьяну»), стало поговоркой. В научных трудах данный тезис употреблялся в сентенциях, не допускающих возражений. Например: «Как известно, причиной, которая лежит в основе процесса очеловечения животноподобных предков человека, является возникновение труда…» (Леонтьев, 1983, с. 222).
«Как известно…» Есть кандидат (обезьяна), есть «дорожная карта», как вывести обезьяну в люди (трудовая теория). А в итоге уверенное «как известно» превратилось к концу ХХ в. в «неизвестно что». «Теория антропогенеза подошла к черте, где изучение частностей не дает ничего принципиально нового», – написал палеоантрополог В.М. Харитонов в 1988 г. (Харитонов, 1988, с. 77). «В отличие, например, от представителей точных наук, в частности физиков, палеоантропологами пока не создано ни одной подлинной теории», – справедливо написал Ю.И. Семенов в 2002 г. (Семенов, 2002, с. 14). Кстати, он сам является автором толстой книги «Возникновение человека», впервые вышедшей в 1966 г. (своеобразный апофеоз «трудовой теории»). «Фактов много, но все они уложены в крайне убогие, либо фантастические схемы», – написал философ Б.В. Марков в 2005 г., подчеркивая, что «существует большой разрыв между открытиями палеоантропологии и их истолкованиями» (Марков Б., 2005, с. 130). «…Всю жизнь – более пятидесяти лет – общаясь со здоровым и больным мозгом человека, – написала нейрофизиолог Н.П. Бехтерева в 2006 г., – поверить в такую эволюцию, как на известных картинах шагающих друг за другом чудовищ, я не могла. Я всегда была уверена, что выкапывают преимущественно останки тупиковых линий, о чем, кстати, и говорила. Как известно, в отношении некоторых чудищ это оказалось правдой» (Бехтерева, 2011, с. 7). Антрополог-симиалист С. Дробышевский пишет: «Ныне у антропологов сложность не с недостатком, а с избытком информации» (Дробышевский, 2018, с. 43).
Симиалисты – прошу запомнить – это сторонники гипотезы происхождения человека от обезьян.
Не приходилось слышать, чтобы представители других наук, изучающих древности, жаловались на избыток фактов. Наоборот, всем не хватает фактов. Либо что-то не так с фактами, либо с антропологами. Но факты – это исторические памятники. Только ненормальные могут на них жаловаться. Антропологи – это люди, которые, как известно, часто заблуждаются.
Справедливо критикуемые концепции палеоантропологов не являются научными теориями, потому что не дают внятной, без допусков некоего чуда, ретроспективы эволюции человека. Началом обычно является допуск («обезьяны сошли с деревьев на землю, где перешли к прямохождению; но вопрос о причинах, – это «проклятый вопрос антропогенеза», ответа на который никто не знает»), то есть пускового механизма нет. Далее обычно следует изнурительно наукообразное и бессмысленное перечисление ископаемых гоминин, в каждой концепции выстраиваемых по-своему, но ни в одной сколько-нибудь убедительно. Концовки не бывает, так как о происхождении сознания палеоантропологам сказать нечего, кроме таких же нудных переборов: у кого зоны Брока и Вернике есть, а у кого их нет, и здесь сплошная перепутаница, в линию прогресса по этим признакам гоминины не выстраиваются. Уверения, будто антропоиды обретали разум и язык «мало-помалу», «постепенно», «шаг за шагом», давно никого не убеждают. Это просто лукавство: подменять причинность постепенностью. Вообще нет более удобной сферы приложения сил для жуликов в науке, манипулирующих косточками, как наперсточники на провинциальном вокзале. «Даже по австралопитекам – самым древним из прямоходящих – имеются тысячи находок» (там же). Есть чем манипулировать.
В связи с тем что без фактора чуда антропологи обойтись не способны, существенного отличия от креационизма в научной палеоантропологии нет, как в отечественной, так и в западной. Паче того: у креационистов только один допуск в начале – Бог создал мыслящее существо по своему подобию, – а дальше у них все складывается умно и логично. Неизмеримо умней и логичней, чем у ученых-симиалистов, чьи наукообразные тексты явно проигрывают интеллектуально текстам умных теологов и при этом постоянно сбиваются на креационизм. Ученые никак не могут обойтись в своих схемах эволюции человека без фактора чуда. Чудом является уже сползание обезьян на землю, притом что ни необходимости, ни возможности у них не было для этого подвига. Предлагаемое объяснение было: чтобы трудиться. Но где пусковой механизм, где причина? Откуда вдруг возникла неодолимая тяга к труду? Или была изначально, как у муравьев? Но те виды, которые сформировались благодаря рефлекторному труду, просто не могут не трудиться. Муравьи умирают, когда их лишают возможности трудиться, но про обезьян этого не скажешь и про людей тоже.
Изначально все антропоиды, как известно, лишены трудовых инстинктов, и сползание с деревьев на землю не может являться первотолчком: гориллы обитают на земле и не трудятся, а почти все время бодрствования тратят на то, чтобы жевать малокалорийную пищу или лежать, экономя энергию. Не тянутся к труду более активные недревесные обезьяны саванн. Обезьян, испытывающих потребность в труде, на Земле вообще не существует!
Трудовые животные, как правило, не отличаются сообразительностью в сравнении с другими. Природа, как правило, обрекает на рефлекторный труд далеко не самых развитых животных, которые, встав на эти рельсы, уже никогда не поумнеют, скорее наоборот. Дарвин считал очень умным животным трудовую пчелу. Но опыты этологов в ХХ в. показали, что, если передвинуть улей всего на метр, пчела не найдет дороги к нему! Будет кружить рядом с родным ульем, пока не упадет замертво. Не дура ли несчастная? Дура, хотя и трудяга, и труд пчелы – очень сложный инстинкт. Как бы ни был сложен рефлекторный труд, он не влечет за собой развитие интеллекта.
Далее, необходимо обратить внимание на следующий факт, до сих пор не входивший в поле зрения палеоантропологов, причислявших к «трудовым животным» узкий круг: пчел, муравьев и бобров. На самом деле «трудовых животных» на планете гораздо больше, чем принято думать. К ним относятся почти все животные: от плетущих сети пауков и катающих шарики жуков до слонов, пробивающих дороги в джунглях. Трудятся птицы, строящие гнезда и инкубирующие яйца; все норные животные; все животные, использующие какие-либо приспособления для добывания пищи, например вьюрки или каланы; все животные, делающие запасы на зиму, и т. д. и т. п. Неустанно трудится землекопом крот, роя тоннели под землей, чтобы потом собирать червей, попадающих в них. Трудятся белка и хомяк, причем это труд с отодвинутым потреблением его результатов. Кролик, живущий в квартире, время от времени стучит по полу, откуда возник образ «зайчика-барабанщика». На самом деле кролик «пробует грунт», в нем активируется трудовой рефлекс: рыть землю. Труд – это не редкий в природе фактор эволюции, это массовое явление, не влекущее разумность в качестве следствия, даже если труд очень сложный и с отодвинутым результатом. Например, садовые муравьи занимаются сельским хозяйством настолько грамотно, что люди могут им только завидовать. Они разводят тлей, перетаскивая их с дерева на дерево, доят их, ферментируют продукцию, сохраняют яйца тлей зимой в тепле муравейника.
Вообще трудно найти нетрудовой вид в природе. Исключительно нетрудовыми животными являются понгиды, к привычкам которых постоянно апеллируют антропологи, доказывающие, будто «труд сделал из обезьяны человека». Животных, у которых имеются рефлекторно-трудовые навыки от природы, люди приучили к труду и используют, например слонов. Люди сумели выработать условные трудовые рефлексы даже у тех животных, которые не имели таковых безусловных рефлексов: у ослов, быков, лошадей, собак. Но с обезьянами ничего не вышло! Из этих брахиаторов могли бы получиться идеальные полотеры, сборщики плодов и т. д. Однако свои конечности, так похожие на человеческие, обезьяны используют как угодно, только не для труда. В странах победившего марксизма проводились опыты по экспериментальному доказательству теории Энгельса. Можно представить, насколько настойчивыми были эти опыты: если бы удалось принудить шимпанзе устойчиво выполнять хоть одну трудовую операцию, это было бы великой научной заслугой с огромным идеологическим значением и карьерными оргвыводами. В 30-е годы получили известность опыты Н. Ладыгиной-Котс по выработке условных трудовых рефлексов у шимпанзе. Например, молодой шимпанзе Иони приучался добивать молотком торчащий гвоздь за вознаграждение. «…В результате своей большой практики, – честно пишет Ладыгина-Котс, – Иони все же никогда не забил ни одного гвоздя» (Ладыгина-Котс, 1935, с. 226).
В Индии, южнее полосы Мумбая, деревья манго растут в каждом дворе без ухода. Все увешаны плодами. Манго на рынках стоит 200 рупий за кг. Ананасы люди выращивают, поливая потом. Стоят ананасы на рынках 20 рупий за кг. Разница в том, что деревья манго высоченные, собирать плоды – опасный труд. По деревьям шмыгают обезьяны, причем одни из самых сообразительных – макаки. Почему, казалось бы, не приучить их рвать манго? Разве не идентичными являются такие трудовые операции, как доставка хозяину подстреленных куликов и доставка плодов с деревьев? Почему у собак оказалось возможно выработать трудовой рефлекс по доставке, а у обезьян – нет? Обезьяны не глупее собак, следовательно, в принципе можно выработать любой рефлекс, доступный собакам. Причина одна: патологическое отвращение к рефлекторному труду.
Интересная тема для зоопсихологии: существование видов, испытывающих патологическое отвращение к рефлекторному труду, притом что вся природа увлеченно трудится. И еще более интересная тема для психологии, занимающейся когнитивными диссонансами: почему уникально «нетрудовое» животное – обезьяна – было назначено учеными «трудящимся предком человека»?
Обычно тексты подобных ученых начинаются с рефлекторного труда, но чисто декларативно. Далее происходит системный сбой, наблюдаемый у всех известных сторонников труда как причины сапиентации. Например, академик А.Н. Леонтьев в «Очерке развития психики» пишет: «Как известно, причиной, которая лежит в основе процесса очеловечения животноподобных предков человека, является возникновение труда и образование на его основе человеческого общества… Труд создал и сознание человека» (Леонтьев, 1983, с. 222). Но это так и остается декларацией. Когда академик переходит к реконструкции процесса сапиентации, он сбивается на охоту. В качестве примера начала совместной деятельности «животноподобных предков человека» он приводит не коллективный труд, а коллективную загонную охоту (там же, с. 227–228). То же самое наблюдается у профессора Ю. Семенова, который, перейдя от деклараций вводной части к конкретной реконструкции событий в главе «Основные этапы развития первобытного человеческого стада», пишет не о труде, а об охоте, начиная реконструкцию именно с нее, а не с труда (Семенов, 1966, с. 286). Чем объяснить эту непоследовательность сторонников «трудовой теории»? Ничем, кроме как очередным лукавством, политесно именуемым «когнитивный диссонанс».
На базе фактора труда никакая реконструкция сапиентации невозможна в принципе, она еще ни у одного ученого не получилась и никогда не получится. Дело в том, что развитие коллективной трудовой рефлекторной деятельности с целью роста эффективности возможно только в векторе специализации, а это «пчелиный тупик». Как пишет академик В.П. Алексеев, «…физиологическая обусловленность разделения труда, усложняя формы рабочей активности животных и представляя собой биологический путь обеспечения этой усложненности, в то же время крайне неперспективно в эволюционном отношении, косно, специализированно. Оно есть не широкая магистраль эволюционного развития, а отходящие от нее тупики эволюции» (Алексеев, 1984, с. 132, 133).
«Младшие современники Ч.Дарвина – Д.Д. Дана (1813–1895) и Д.Ле-Конт (1823–1901), два крупнейших североамериканских геолога (а Дана к тому же минералог и биолог), выявили еще до 1859 г. эмпирическое обобщение, которое показывает, что эволюция живого вещества идет в определенном направлении. Это явление было названо Дана «цефализацией», а Ле-Контом «психозойской эрой», – писал Вернадский в статье о ноосфере. Он считал, что целью эволюции является создание разума и дальнейшее развитие его в ноосферу (Вернадский, 1944, с. 113–120).
Здесь я намерен сформулировать – ни много ни мало – закон прогрессивной биологической эволюции: если считать целью прогрессивной эволюции разум, то физический труд – это фактор антиэволюционный. Если вид переходит к труду как основной форме активности, то будущего он не имеет.
Насколько это противоречит тому, чему учили нас в школе и чему до сих пор учат молодежь даже в ведущих университетах!