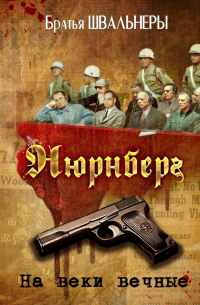Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
Дизайнер обложки Братья Швальнеры
Иллюстраторы Братья Швальнеры
© Братья Швальнеры, 2020
© Братья Швальнеры, дизайн обложки, 2020
ISBN 978-5-4498-3686-1
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Пролог, или Предварительное слушание
20 августа 1945 года, Бельзен, американская оккупационная зона в Германии
Августовское солнце светило как никогда жарко, а вкупе с теплым ветром превращало когда-то благодатные германские поля и равнины в подобие пустыни. Светило так упорствовало в своем стремлении прогреть уставшую от зимы землю, что, казалось, норовит выжечь священным пламенем всю мерзость, нанесенную ей затяжной войной. Головы грелись при такой температуре не меньше, что давало повод надеяться: война сотрется с земли и из человеческой памяти, как сгорает все под палящими лучами этого солнца. «Виллис» летел по проселочной дороге с бешеной скоростью, взрывая клубы пыли и тут уже утопая в них по самую раму. В сопровождении трех американских солдат в машине на переднем сидении, возле водительского, сидел человек в некогда красивом костюме, превратившемся после двухчасовой прогулки по американской оккупационной зоне в запыленную хламиду. В зубах он сжимал неизменную трубку, а на носу посверкивали на неспокойном солнце линзы запачкавшихся очков. В этом уставшем субъекте трудно было узнать заместителя директора Управления стратегических служб США Аллена Уэлша Даллеса.
Аллен Даллес
Он ехал в маленький городок Бельзен, где недавно располагался один из крупнейших немецких концлагерей и где теперь готовился суд над охранниками этого лагеря. Ехал не просто так – процесс должен был стать первым в череде показательных судов над нацистскими преступниками, нарушавшими все нормы морали и международного права внутри жуткой пенитенциарной системы рейха. И при подготовке к нему возник целый ряд проблем, о которых Даллесу сообщила местная оккупационная администрация, принявшая территорию и пленных из рук изначально захвативших лагерь англичан. Проблемы были очень тонкие, щепетильные, решить которые мог только такой дипломат и правовед как Даллес. Главная из них сводилась к, мягко говоря, кривой доказательственной базе в рамках готовящегося процесса, поправить которую было уже нельзя – международные конвенции запрещали корректировку доказательств после предъявления окончательного обвинения. А его уже предъявили. Так случилось, что Даллес не имел доступа к этому делу до получения донесения. Получив же его, узнал, что охранников лагеря будут судить в нарушение соглашения о прекращении огня, в силу коего они считались военнопленными. За что же судить солдат?
Кроме того, обыск не проводился ни у одного из охранников концлагеря из отрядов СС, которые покинули лагерь после прекращения огня. Теперь же делать это было поздно. Некоторые свидетели противоречили сами себе во время перекрестного допроса, некоторые не могли опознать ответчиков как виновников рассматриваемых преступлений. Один из бывших заключенных, Оскар Шмиц, оказался ошибочно обвинённым в качестве эсэсовца и чудом избежал предъявления обвинения!
Все эти неудобные моменты предстояло урегулировать Даллесу, которому с начала войны правительство поручало самую тонкую и ответственную работу на наиболее проблемных участках. Для этого он, в сопровождении группы солдат, приблизился на военном «Виллисе» к воротам бывшего лагеря Берген-Бельзен, где содержались арестованные эсэсовцы и где еще вчера они совершали свои преступления.
…Ворота лагеря открылись. Ничего необычного на первый взгляд – такие постройки он видел еще во времена учебы в военном училище, куда его пристроил дед по материнской линии, генерал Джон Фостер, бывший участник Гражданской войны. Несколько длинных бараков казарменного типа стоят друг против друга, разделены плацами и какими-то хозяйственными постройками, местами виднеются рельсы для прохода вагонеток. Обычный военный лагерь, если бы не неуловимое, но гнетущее ощущение тяжести в самом воздухе. Нет, он не спертый и ничем не пахнет, даже свежее, чем где бы то ни было. Но что-то в нем как будто сдавливало виски Даллеса.
Он стал присматриваться, напрягая смотрящие сквозь очки глаза и все время пытаясь уловить это незримое нечто, которое не давало ему покоя. Он отлично понимал, где находится, и то, что атмосфера таких мест сама по себе неприятна, но не был суеверным человеком. Давило его что-то вполне определенное, пусть даже и сопряженное с назначением лагеря смерти. Наконец, его зоркий глаз поймал эту деталь – это был беспорядок. Нельзя было, конечно, сказать, чтоб на лагерь обрушилась бомба или он подвергся разорению, но тут и там были следы раздрая, которые выдавали истинное предназначение этого места и не позволяли спутать его ни с чем другим. Вот – чьи-то раздавленные очки, там – кусок тряпки, испачканной чем-то багровым, тут – ботинок с лагерным номером и аббревиатурой, здесь – несколько пустых пулевых гильз. Конечно, несколько недель назад, когда лагерь занимался английскими войсками, царили тут полные разброд и шатание – немцы в спешке жгли документы, уничтожали материальные ценности, ломали постройки и сооружения, – и потому бардак был бы обычным явлением, если бы не его специфический характер… Подойдя к стене одной из сохранившихся добротных кирпичных построек, Даллес заметил, что она черна как уголь, а из нее выходит и смотрит прямо ему в лицо толстая и широкая труба. Под ней видна разметанная ветром, но все еще осязаемая куча пепла. Он принюхался – обоняние всегда было его коньком, еще с детства. Запах был специфический – такой запах он часто ощущал, когда готовил барбекю. Так пахнет политый жидкостью для розжига уголь, когда на него попадают капли сала с обжариваемых стейков.
Да, несомненно. Это был не простой бардак. Это был элемент смерти – страшной, мучительной, изуверской, на которую гитлеровцы обрекали «всех, сюда входящих». И те несколько недель, что лагерь находился под наблюдением оккупационной администрации, не смогли окончательно выветрить этот дух и следы присутствия подручных сатаны. Кажется, и годы не смогут.
– А где тела? – поинтересовался Даллес у коменданта опустевшего лагеря, майора Мак-Кинли.
– А зачем они вам?
– Странный вопрос. Вы думаете проводить судебный процесс по делу об охранниках лагеря, обвиняете их в бессудных казнях, в геноциде, и не имеете ни одного вещественного доказательства. Сразу видно, что вы не юрист…
– Это ни к чему, сэр. Лагерь мы занимали практически без боя – они сдали его в конце апреля, когда война еще шла, по договоренности с англичанами. Надеялись выторговать себе привилегии в будущем, и поэтому основную часть документов отдали добровольно. А в этих документах сведений о массовых сожжениях, отравлениях и химических опытах – хоть отбавляй. Не отопрутся. Да и потом – не оставлять же нам было тела до приезда специальных уполномоченных комиссий. Мои ребята – не криминалисты и не врачи, толком осмотреть все равно бы не смогли, а до назначения и прибытия специалистов от них бы все равно остался один прах…
– …и вы решили?
– Захоронить, разумеется, сэр. Мы же не варвары. Приказ об этом дали оставшемуся здесь персоналу, да они и не сопротивлялись особо. За день всех зарыли. Хотя скелетов тут в день нашего прибытия была целая гора, – майор обвел руками линию горизонта.
– Скажите, как вы думаете…
– Да, сэр?
– Вы правильно сказали, что лагерь немцы сдали добровольно, по договоренности с англичанами, – размышлял вслух Даллес. – Что персоналу обещали англичане? Привилегии. Жизнь, во всяком случае. Потом наши войска присоединились к англичанам, и начались аресты персонала. Теперь над ним готовится суд. Вам это не кажется странным?
– Что мы будем судить убийц? Нет, сэр, – пожал плечами майор.
– Нет, в данном случае не то, что мы будем судить убийц, а то, что мы будем судить хозяйственный персонал лагеря не только в нарушение данных им нашими союзниками обещаний, но и в нарушение конвенции, которая провозглашает его условно не подлежащим суду? – уточнил Даллес.
– Я вас не понимаю, сэр.
– Ну представьте, к примеру, что войну выиграли бы не мы. Тогда и вас, и всю нашу хозобслугу, включая аппарат лагерей для военнопленных, тоже следовало бы вздернуть на виселице? Просто потому, что они изначально поставили не на ту лошадку?
Мак-Кинли натянуто улыбнулся.
– Вы не знаете, о ком говорите, сэр. Это не люди, это звери. Поговорите с жертвами и свидетелями их зверств, да с ними самими, в конце концов – и вы убедитесь в этом.
– Что ж, именно для этого я сюда и приехал. Но давайте все же начнем с документов…
Несколько дней Даллес изучал статистическую отчетность лагеря, незатейливо переданную персоналом Берген-Бельзена сначала англичанам, а потом американцам. Эти несколько дней станут самыми страшными в его судьбе – он не сможет толком ни есть, ни спать… Нет, раньше он слышал о печах, в которых горели десятки живых, и о душегубках, в которых сотни людей ежедневно травились специально для убийств произведенными-! -химическими газами. Все-таки он был разведчиком, и сведения о зверствах и бесчинствах СС в концлагерях всю войну ложились ему на стол секретными агентурными донесениями шпионов. Но так близко весь этот ужас, описанный сухим канцелярским языком – как повседневность, обыденность, жизненный порядок – стал к Даллесу впервые. Контрольным выстрелом в разгоряченную голову его стала беседа с одним из свидетелей на грядущем процессе, бывшим узником. Он не запомнил его имени – память его бессознательно включила рефлекторное охранительное торможение, чтобы не запоминать того, что могло бы испортить настроение, самочувствие или аппетит. Но сути беседы забыть он не сможет никогда…
– Впечатления? Вы спрашиваете о впечатлениях? – ухмыльнулся вопросу американца этот несчастный. – Самое яркое – это вечер. Когда целый день ты не просто созерцал смерть, а вдыхал ее всеми порами своей кожи, проходил мимо нее, здоровался с ней за руку и вытягивался по стойке «смирно» при ее приближении. Когда вонь трупов проникала в одежду и волосы, зычным голосом безысходности возвещая тебе о скором и неизбежном приходе конца. Когда гарь крематориев едкой дымкой витала в воздухе и напоминала даже не о преходящем, а о каком-то смешном, коротком и легко прерываемом моменте существования белкового тела, по ошибке именуемом жизнью… Так вот, после всего этого вечер кажется Божьей благодатью. Вечером уже точно ничего не случится – никто не придет, не подаст команду отправляться в газовую камеру или в крематорий, не направит многозначительно в распределитель. Как будто посреди повсеместного ада в раю вдруг объявляется день открытых дверей. Кажется такой вечер иногда вечностью – хватаешь воздух ртом и ноздрями, и не чувствуешь в нем уже ни копоти крематориев, ни вони трупных складов, ни омерзительного сероводорода. Совсем другой воздух вечером. В нем уже нет того жуткого духа смерти, что – если приглядеться – тут витал повсюду. Вечером и не приглядишься – темно. Прожил этот день, заканчиваешь его живым, когда тот, кто вчера ел с тобой из одной тарелки превратился в вонючую горстку пепла – вот и счастье. Вот и впечатление.
– А как же массовые убийства, которые вы видели? Они вам не запомнились? – вскинул бровь Даллес.
– Нет. Они были обыденностью. Их я видел каждый день, а день несравнимо длиннее ночи. Впечатления от темного времени суток потому, наверное, ярче, что длятся меньше по времени. То, что является рутиной, никогда не остается в памяти. Оно наносит след, травмирует вашу душу, делает вас таким, каким прежде вы никогда не были и уничтожает вас прежнего, но так, чтобы оно запомнилось – это нет. Человеческий ум устроен так дьявольски тонко, что запоминать старается хорошее – хорошими для меня и для всех, как я уже сказал, были вечера, – и то, что возвеличивает самого человека, обращает внимание его и окружающих на его подвиг.
– Подвиг?
– Да, именно подвиг. Ведь выжить в этой обстановке кровавого… нет, не кровавого. Пожалуй, крови-то я тут и не видел, убивали здесь всегда как-то по-особенному, без крови… в обстановке смертельного хаоса- это и есть подвиг. Неважно при этом, «настучал» ты на кого-то, подставил кого-то под эсэсовские пули, стал ли виновником чьей-то гибели – главное, что выжил сам. Для каждого человека спасение собственной жизни в сложной ситуации – есть развязка судьбы, конечная цель. И потому этот каждодневный подвиг, о совершении которого можно было судить только под вечер, думаю, запомнится каждому…
– Но забыть все, что видели здесь, я думаю, все же вы не сможете?..
– Забыть?! – удивился вчерашний узник. – Забыть можно некий импринт – событие, ситуацию или человека, который по касательной прошел по твоей судьбе и исчез. Это категория воспоминаний. А то, что мы здесь видели, участниками чего были, никогда не подпадет под понятие воспоминаний. Это теперь наша действительность, высеченная на сердце и смертельно опасной, ядовитой инфекцией засевшая в жилах. Это – правила жизни. Это – сама жизнь. Да, больше не будет в ней надзирателей и капо, не будет печей и душегубок, не будет собак и плеток. Но останутся законы выживания, неисполнение которых вечно теперь будет ассоциироваться со всем вышеперечисленным. При любой стрессовой ситуации каждый теперь ринется спасать свою жизнь, будучи уже подготовленным суровыми испытаниями Берген-Бельзена. Каждый готов будет перегрызть глотку товарищу, исполнить чудовищный приказ гегемона, впасть в состояние смертельного оцепенения по первому окрику. Концлагерь навсегда всех сломал. И не верьте тем, кто говорит обратное – возможно, он врет, а возможно, просто не понимает, что с ним произошло. Но оно произошло…
– А перегрызть глотку охраннику, к примеру, у вас не возникнет желания?
– Глупо. Его и здесь не возникало. Здесь ведь не только убивали физически – сначала убивали духовно. Убивали созерцанием всего того, о чем я говорил, и что вы сами здесь видели. Сначала надо убить человека духовно, а это процесс чуть более длительный, чем смертная казнь. И только убив духовно и придя к выводу о полной твоей ненужности, убивали уже физически. А проверить готовность было просто. Если ты еще пытался первое время как-то защищать свои права, на что-то претендовал, спорил с охраной, то несколько месяцев пребывания здесь, в обществе дрожащего от страха, приговоренного уже, но с отсрочкой, скота, убивали в тебе эти последние остатки человеческого. Я своими глазами видел, что творило насаждаемое здесь чувство обреченности, что оно делало с людьми – четверо эсэсовцев вели на смерть сотню, и она молчала. Молчала, когда пихали их в камеру, молчала, когда лицезрела смерть товарищей и готовилась к своей собственной. Каждая особь – это были уже не люди – молчала. Нет, они кричали, конечно. Когда боль от ожогов в печи становилась невыносимой. Но это продолжалось недолго. Куда дольше кричит человек, которому страшно. Здесь страха не было.
– Совсем не было? Но…
– Я неверно выразился, – поправился собеседник. – Страшно здесь было не то, что тебя убьют. Страшно то, что мотив убийства может быть самый пустяковый, а может его и не быть совсем. Никакими выслуживаниями перед эсэсовцами капо и травники не могли себе заработать гарантий долгой жизни. Ты мог выдохнуться, и тебя решали убить просто за позволенную самому себе минуту отдыха тогда, когда организм попросту отказывался дальше выполнять тяжелую работу. Из рейха могла поступить разнарядка на биоматериал для производства мыла, и тебя убивали просто в целях выполнения плана. Могли ограничить объем продовольствия, – и тогда ты лишался жизни просто по принципу случайной выборки. Здесь убийство не было убийством. Как я уже сказал, оно было повседневностью, статистикой, безликой и бесстрастной – и оттого было еще более ужасным. Человек приходит в мир с болью, уходит с болью, а здесь этот закон природы нарушался. Боли не было. То есть была физическая, но не было духовной – а она тоже обязательна. Убитый морально человек отправлялся на смерть по приказу, ничего уже не соображая и не имея возможности произнести даже последнее слово. И никакой надежды у него не было…. И только она могла дать надежду… Красивая девушка всем своим видом резонирует со смертью. Да еще ее атрибутика… Всегда безупречная, выглаженная форма, запах духов, начищенные до блеска сапоги, даже плетка с инкрустацией драгоценными камнями… Все это тянуло – не могло не тянуть к ней…
– Какую же надежду она могла вам дать?
– Она давала шанс выжить. Самых красивых из нас – хотя, какую красоту можно разглядеть в измученных узниках концлагеря? – она выбирала в качестве друзей. Играла с нами как с игрушками, как с живыми куклами. Ей же было немногим более 20-ти, в сущности, совсем ребенок. Недаром ее звали здесь «Светловолосый дьявол», «Ангел смерти», «Прекрасное чудовище». И, хоть никому не понравилось бы быть куклой пусть даже понарошку и совсем ненадолго, а все же от ребенка можно получить ту долю света и радости, которая может спасти в этом Дантовом аду. Надолго ли хватит ее, доли этой? А ровно настолько, на сколько хватит интереса ребенка к тебе как к игрушке. Как правило, время это непродолжительно.
– И что потом случится с этой игрушкой?
– А все, что угодно. Что же до Ирмы, то она могла затравить собаками, застрелить шутя, просто отрабатывая навыки пользования пистолетом, приказать человеку повеситься на ее глазах – и он вешался. Не говоря уж о стандартных способах типа газовой камеры или крематория. А она отправлялась играть с другими, новыми куклами – для всякого ребенка соблазн невероятно велик, если он находится в большом магазине, где такого товара много. И всякий раз выдумывала новую игру… – Собеседник Даллеса поежился, как будто холодком прохватило его кожу в этом теплом помещении в конце лета. Разведчик понял, что воспоминания об этих играх будут еще более жуткими, чем воспоминания о днях в лагере. – Как у любой девочки-переростка, любимыми ее развлечениями были сексуальные. Причем, самые откровенные – даже такие, которые могли раздавить человека, унизить его, лишить самоуважения и вообще представления о себе как о воодушевленном и разумном существе. И во всем, включая самые неистовые дикости, ей надо было подчиняться. Иначе интерес к тебе быстро проходил. А этот самый интерес и был для нас надеждой – пока ты интересен, тебя не пригласят в душегубку и не поставят к стенке потому только, что на сегодня надо выполнить план по расстрелам. Ее тут все слушались, ей потакали. И те, кто любил жизнь, пользовались ее недолгим расположением, чтобы надышаться перед смертью, как писал этот русский писатель со странной фамилией…
Ирма Грезе
А уже несколько минут спустя в соседнем помещении Даллес беседовал с той самой избалованной девочкой, которая служила здесь надзирателем и творила с людьми вещи, при описании которых император Нерон поднялся бы из гроба и зарукоплескал. Ей действительно было немногим более 20-ти. Звали ее Ирма Грезе. Неопрятность, ставшая печальным следствием ареста, немного смазывала впечатление, но, присмотревшись, можно было увидеть, что красавицей она действительно была просто писаной – белокурые волосы, правильные черты лица, белая кожа, модельная стройность и кукольные глаза. Немного неживые, прохладные, пустые. Но очень красивые. Помимо служебных обязанностей, она была любовницей коменданта лагеря, и потому имела над заключенными поистине неограниченную власть. И использовала ее действительно как избалованное дитя, enfant terrible, – глупо, вероломно и чудовищно. Теперь ей предстояло понести за это ответственность, но, кажется, для нее это было чем-то сродни откровения или геометрии Лобачевского для неандертальца.
– Это ваше? – спросил ее Даллес, указывая на ту самую пресловутую плетку с инкрустацией сияющих полудрагоценных камушков на рукоятке.
– Да, – спокойно ответила она. – Разве запрещено держать при себе такие вещи человеку, который вчера был надзирателем лагеря?
– Наверное, нет. Но это украшение…
– Я же женщина.
– И потому вы считали себя вправе применять эти игрушки для ваших садистских игрищ?
В ответ она по-детски наивно хохотнула, прикрыв рот рукой.
– Думаете, это смешно? – вгляделся в нее Даллес.
– Я думаю, что в моих забавах они принимали участие добровольно, – вмиг посерьезнев, отчеканила Грезе. – Во всяком случае, многих из них только развлечения со мной и спасли от неминуемой и скорой гибели. Согласитесь, лучше уж поиграть и вдобавок совместить приятное с полезным, удовлетворив мои и свои естественные надобности, чем жариться в печи крематория?
– К слову о печах. Вам кажется такой способ казни гуманным?
– Какая разница, как казнить?! – вдруг пришла в ярость Грезе. – Они были приговорены, обречены, отправлены сюда умирать, и отправлены не по нашей вине. Так о какой гуманности с нами вы вдруг решили здесь говорить?! Кажется ли вам самому гуманным, что нас, военнопленных, здесь содержат как гнуснейших преступников?! Когда еще вчера британские власти обещали нам сохранение жизни и всех гарантий, какие полагаются по международному праву…
– Никто не может никого судить за исполнение приказа. Но это – в отношении солдат на фронте, – отрезал американец. – Вы ведь могли и отказаться. Понимали же, осознавали всю чудовищность происходящего здесь…
– Это вопрос риторики и ответ на него зависит от конкретных обстоятельств. Вы сами, к примеру, часто отказывались выполнять поступавшие вам приказы?
– А причем тут я?
– При том, что сами завтра можете оказаться на моем месте.
– Я, в отличие от вас, не замарал себя службой в концлагерях и пытками, сравнимыми разве что с опытами Торквемады. Да будет вам известно, именно я сделал многое для того, чтобы ваша страна вышла из войны с меньшими, чем должно было быть, потерями; старался сгладить острые углы перед союзниками. И что я увидел?
– Вы, должно быть, старались для других – для тех, кого надо посадить на наше место… – философски процедила девушка.
– О ком вы говорите? Вы, должно быть, не понимаете…
Она не дала ему договорить, вскрикнув:
– Да, я правда не понимаю, за что меня здесь судят! То, что вы называете зверствами, было не более, чем нашей обязанностью. Нам давали приказы, мы их исполняли. Это касалось и медицинских опытов, и способов уничтожения, и наказаний за нарушения режима со стороны заключенных. Никакой нашей самодеятельности в этом не было – посмотрите статистику других лагерей. Чем же мы виноваты? Если бы мы чувствовали за собой какую-то вину, то ушли бы с теми немногими, кто переоделся в гражданскую одежду и удрал как крысы в первые же дни после передачи лагеря англичанам…
Она была права – англичане не сразу арестовали персонал лагеря, который, согласно акту о свободном выводе войск (приложению к соглашению о прекращении огня), считался хозяйственным персоналом и по мере передачи дел переходил в распоряжение британцев в статусе военнопленных. Пользуясь этим, многие сбежали, переодевшись в гражданское. Ирма же, комендант Крамер, Кляйн, Хесснер и другие остались, уверовав в свою безнаказанность. Даллес и сам поначалу придерживался этой точки зрения, но беседа с узником и те фрагментарные картины, что явились здесь его взору и теперь, вкупе с изученными документами, составили ужасающее представление о лагерных порядках, заставили ее изменить. Перед его мысленным взором проносились картины мирного передвижения по лагерю отрядов заключенных в то время, как из труб крематориев валил дым, а крики тех, кто этот дым создавал, заглушались транслируемыми по лагерному радио бравурными гитлеровскими маршами. Его душу словно льдом сковало… Когда он пришел в себя, Грезе все бормотала с пеной у рта:
– За что?! Почему мы?! Почему не судят Гиммлера, Геринга, Бормана?! Почему не отвечают те, кто давал приказы?!
От этих слов Даллесу стало еще хуже. Он вспомнил, как в последние месяцы войны встречался в Берне, в своей резидентуре с генералом СС Карлом Вольфом. Холеный, одетый в красивый костюм ручной работы, приезжал он в Швецарию по поручению Гиммлера выторговывать привилегии себе и шефу после капитуляции группировки войск Кессельринга в Северной Италии. Ни один мускул не изменял своего местоположения на его лице, когда он потягивал кофе из маленькой чашечки и говорил о концлагерях – тогда он сожалел, что огромные по площади и производственной эффективности хозяйственные постройки на их территориях придется передать союзникам или уничтожить. Сожалел, что не принесут они больше пользы рейху. Сожалел, что не удастся ему занять пост министра внутренних дел вместо Гиммлера… А сейчас Гиммлер бездыханный лежал в морге в Лидице – он разгрыз ампулу с ядом после пленения британцами. Борман исчез, а Вольф содержался в лагере для военнопленных, и, по всей видимости, судьба его и прочей верхушки рейха рисовалась более завидной, чем судьба этой несчастной безумицы, которую со дня на день ждала виселица…
Несправедливость – вот как это можно было назвать. Но не по отношению к обезумевшим зверям, которым позволили по своему усмотрению распоряжаться судьбами людей, вручили часть функций Бога, дали право казнить и миловать. Не по отношению к Грезе и ее подельникам. Несправедливо это было по отношению к памяти тех, кто на веки вечные был погребен под толстым слоем земли Берген-Бельзена и десятков таких концлагерей по всему миру!..
30 августа 1945 года, США, Вашингтон, округ Колумбия
Начальника Управления стратегических служб при Комитете генеральных штабов Уильяма Донована за глаза звали «Дикий Билл». Такое прозвище ему обеспечили его резкость, крутой нрав, напор и настойчивость, которыми он был знаменит в самых высоких кабинетах сильных мира сего на протяжении последних 30 лет. В Гражданскую, в России он был советником адмирала Колчака. Вернувшись в США, стал одним из самых известных адвокатов на Уолл-стрит – среди его клиентов был сам Черчилль. А в 42-ом он возглавил секретную разведслужбу, единственную в своем роде, созданную Рузвельтом по его же инициативе – УСС. В заместители он избрал родовитого политика и юриста Даллеса, который был одинаково хорош в вопросах разведки и дипломатии, умел лавировать между рифами внешней и внутренней политики и никогда не сделал бы ничего, что претило бы интересам государства. Принципиальность одного и «медный лоб» другого были вкупе гремучей смесью, способной растворить сталь Сталина! Сегодня же Донован предстал для своего заместителя в неожиданном свете…
Уильям Донован
– Думаю, мы не должны при проведении процесса обращать внимание на те казуистические пробелы в доказывании, о которых донесла оккупационная администрация. Сути дела это не меняет – эти люди должны быть осуждены самым суровым и решительным образом, и вы, как мне кажется, должны ориентировать на это наших военных судей, отправляющихся в Бельзен, – войдя в кабинет начальника спустя несколько дней после возвращения из Германии, отрезал Даллес.
Донован в ответ всплеснул руками.
– Что ты говоришь? Закрыть глаза на такие нарушения? Это недопустимо!
– Но вина их настолько чудовищна, что представляется не требующей доказательств, а тем более настолько формализованных… Я уверяю вас в этом, сэр, как очевидец… Почему мы должны с ними цацкаться?
– Именно поэтому. Потому, что преступления этих, с позволения сказать, людей требуют обязательного и сурового возмездия, во избежание повторения того ужаса, в который оказалась повергнута целая планета на протяжении 12 лет!
Даллес поморщился – с юношества не любил он высокопарных слов. И тем меньше в них верилось, чем дальше был его собеседник от эпицентра боевых действий в ходе войны – в ту пору, когда сам Даллес находился практически на расстоянии вытянутой руки от него…
– Разве не суровость и неотвратимость наказания здесь являются определяющими факторами? – посмотрел он внимательно на своего шефа.
– Нет. Ошибаешься. Всякое наказание соответствует по тяжести степени преступления и всякое наказание неотвратимо – опыт человечества учит, что, в конечном итоге, это так. Рано или поздно – а чем позднее, тем суровее, – настигнет стрела возмездия свою жертву. Но кто ее выпустит и из какого орудия – вот вопрос…
– По-моему, слишком много философии из уст победителя, которого, как известно, не судят. Нет?
Донован тяжело вздохнул и посмотрел на подчиненного:
– К сожалению, нет. Орудие, из которого выпущена эта стрела, может стать орудием массового уничтожения. Стрела – общеопасным оружием. А справедливость, не подкрепленная должным образом фактами, доказательствами и основаниями применения – прикрытием для нечистых на руку вершителей правосудия. Ты ведь закончил юридический колледж… Как же «peret mundus, un fiat Justitia»? Юстиция – то есть право, закон, а не суровость и возмездие. Да и возмездие перестает быть таковым, если судим за одно, подразумеваем за другое, а вменяем третье. Как отграничить расправу от правосудия, если на скамье преступник? Ведь это сегодня, при дневном свете он кажется таким. А завтра, при вечернем, будет казаться совсем другим. И тогда та суровость, что была продиктована по отношению к нему велением времени, будет приравнена к кровожадности. И тогда те, кто на веки вечные должен остаться в памяти человечества извергом и врагом всего живого, на веки вечные останется мучеником…
– В этом есть логика, но я не понимаю, зачем мы так долго говорим об уже свершившемся факте.
– Но приговор-то еще не вынесен!
– Да, но ведь вы тоже закончили факультет права, сэр. Вмешиваться в осуществление правосудия на данном этапе мы, даже силой данной нам власти, не можем!
– В этот процесс и на этой стадии да. Но в другой…
– Какой другой?
– Думаешь, я на прогулку отправлял тебя в Бельзен?
– Я так не думаю, но…
– Правильно делаешь. Скоро тебе предстоит работа над ошибками, мой мальчик. Очень скоро.