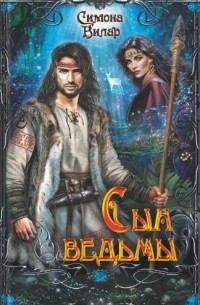Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
Пролог. 990, конец апреля
– Ну что, Добрынюшка? Сказывал, любят и почитают тебя новгородцы?! Говоришь, твое слово в Новгороде все одно как решение самого вече?
Путята не произнес это, а почти прорычал, припав плечом к дверному косяку, – рожа вся в крови и слезах, обычно холеная борода торчит в сторону, словно кто таскал за нее солидного воеводу.
Епископ Иоаким Корсунянин, прибывший на север Руси от самого Греческого моря, даже привстал ошеломленно, а потом слабо опустился обратно в кресло. При свете огня в плошке было видно, как он побледнел. Но сам Добрыня остался спокоен. Смотрел на Путяту немного исподлобья темными жгучими глазами, только соломинка, какую жевал до этого, застыла в углу его пухлых губ.
А Путята не унимался: то вдруг захохотал как безумный, то стал биться виском о косяк и рычать, как зверь. Потом даже заругался грязно, как никогда ранее не позволил бы себе при почтенном Иоакиме и не менее уважаемом им Добрыне – дяде самого князя Владимира. Сейчас же с рыка на бешеный крик переходил и снова вопил.
– Ох, ох, славные новгородцы почитают посадника Добрыню ну чисто батю родного! Ах да и встретят его посланцев хлебом-солью! А вот это на, выкуси! – едва не налетев на Добрыню, ткнул Путята ему в нос скрученный кукиш. – И срать я хотел на твоих новгородцев! Резать их буду, как собак бешеных! Валить всех и вас в том числе…
Иоаким истово перекрестился, а молодой дьяк Сава даже пошел наступать на воеводу:
– Как смеешь ты, нечестивый, такое говорить при его преподобии!..
И отлетел прочь от мощного удара Путяты. И хотя Сава сам был высок и плечист, но рухнул, будто тростник подломленный.
Больше Добрыня вытерпеть не мог. И пусть он подле могучего Путяты смотрелся более мелким и хрупким, но сейчас вмиг скрутил воеводу, зажав его голову под мышкой, и, не давая опомниться, поволок прочь. На сопротивление и глухой рев Путяты внимания не обращал, тащил его, бился с ним о бревенчатые стены перехода, несмотря на отчаянные попытки того вырваться. Наконец он выволок упирающегося воеводу во двор и, заметив у конюшни колоду для водопоя, рывком окунул его голову в воду.
– Ну же, охолонь немного, охолонь, я сказал!
Удерживал какое-то время клокочущего в воде Путяту, вынул, чтобы тот вдохнул, а потом опять с силой навалился, не давая высвободиться. При этом быстро озирался. Видел, как на них ошеломленно и потерянно смотрят дружинники из отряда Путяты, видел и самих дружинников… Выглядели они так, словно из сечи лютой вернулись, а не из посольской поездки в мирный Новгород, куда не так давно он их сам отправил.
– Да что случилось, ради самого неба? Ну, соколики, отвечайте!..
Не столько спрашивал, сколько вопросом удерживал на месте, чтобы не помешали. Но уже понял – беда случилась. И беда негаданная.
Путяту он все же отпустил, когда решил, что с того достаточно. Все еще задыхающийся воевода, осев под бревенчатой стеной, со стоном втягивал воздух. И через миг произнес с дрожью в голосе:
– Страшно там было, Добрынюшка. Я ведь всякого повидал на своем веку, но там… Святым заступником своим клянусь, что такой исполох меня обуял…
Немыслимо воеводе говорить подобное при его ратниках. Но те сами отступали, отходили в сторону, отводя взоры. Лишь кто-то сказал:
– Наш воевода не врет, видит бог. Но ты не серчай на него, Добрыня. Путята сына твоего из горящей избы на себе тащил. Эти бешеные на нас всем скопом набрасывались, мы еле успевали отбиваться, а он все одно Коснятина не покинул, спас. Вон там мальчонка твой, бабы его уже приняли.
Добрыне показалось, что он ослышался. Сына? Коснятина? Он шагнул, куда ему указывали. Бревенчатая гостевая изба в Городище стояла за хороминой, к ней вела ладная, выложенная плахами мостовая, но Добрыня все равно несколько раз споткнулся, пока дошел. А увидев сына, даже не узнал в первый миг. Пять лет назад, когда он по приказу Владимира уезжал в поход на булгар, Коснятин еще в бесштанниках бегал, а сейчас на лавке сидел худой длинноногий подросток, поникший и всхлипывающий, что отрокам уже вроде как и не к лицу. Хотя вон даже Путята ревел…
Добрыня приблизился, погладил сына по светловолосой голове. А тот ткнулся родителю в живот, плечи вздрагивали. Добрыня сказал как можно спокойнее:
– Ну, ну, я тут, я с тобой. Будет реветь, говорю.
Сам же словно опасался спросить о жене. Дурное чуял.
Что дурное произошло, ему позже поведал уже немного пришедший в себя Путята. Они сидели при свете плошки в небольшой коморе, воевода рассказывал, Добрыня слушал – и не верилось. Как же так? Новгород, его Новгород, в котором он без малого двадцать лет был посадником, в котором знал всех и каждого… В котором он, наставник юного Владимира, сам поднялся и столько сделал для блага этого словенского града, стал тут уважаемым и даже любимым… И такое предательство теперь!
Отправляя вчера в Новгород воеводу Путяту с его отрядом, Добрыня ни о чем худом и помыслить не мог. Думал, все ладком пойдет, как только Путята сообщит жителям о возвращении почитаемого в граде посадника. Ну а сам Добрыня остался переночевать тут, в Городище, чтобы дать передохнуть епископу Иоакиму Корсунянину. Епископ уже не первой молодости был, а, учитывая, какой путь им пришлось проделать от самого стольного Киева, заезжая в грады и веси, где Иоаким с Добрыней обращали людей к вере христианской, такой отдых для почтенного священнослужителя казался вполне уместным. Почитай, полгода добирались они на север, и везде приветливо их принимали. Да и кто пойдет против родного дяди прославленного князя Владимира? Так что в Новгород Добрыня рассчитывал ввезти епископа под звуки труб, при полном стечении народа словенского. Отправленный же наперед Путята должен был подготовить все к их приезду. И, напутствуя воеводу, Добрыня так и сказал: сердечно встретят его новгородцы, хлеб-соль поднесут, узнав, что он от самого Добрыни прибыл. А что о новой вере христианской будут они сообщать в Новгороде, так кого это там смутить может? Ведь уже не один год обитали христиане во граде, иноземные христианские подворья давно расположились на Торговой стороне Новгорода.
– Нет уже в Новгороде ни единого иноземного подворья, – печально сообщил Добрыне его воевода. – Порушили их, пожгли, а тех иноземцев-христиан, что торговали во граде, порубили всех.
Добрыня слова не мог сказать, так был поражен. Что за нелепость! Ведь новгородцы всегда уважали и ценили тех, кто приезжал к ним по купеческим делам с товарами, кто покупал, торговал и платил пошлину в казну. А тут – вырезали всех… Сдурели, что ли, совсем? Ведь торг для града – это и прибыль, и жизнь, и работа.
– С чего все началось, Путята? Все поведай, не таись.
– Да как тут таиться…
Оказывается, еще до того, как Добрыня был на подъездах к словенской земле, в Новгород пришли из лесов волхвы-кудесники. И сообщили, что в Киеве порушили идолов старых богов, а людям велели креститься. Причем волхвы уверяли, что князь Руси и его дядя Добрыня продались иноземному Богу, да и саму Русь подчинили ромейским царям. И нет больше воли на Руси, мол, всем теперь тут иноземцы заправлять будут. Отныне у словенского племени одна надежда – отбиться от Добрыни и всех, кто с ним придет. Так провозгласили волхвы, и новгородцы поддержали их на спешно собранном вече. И это же сообщили Путяте, когда он въехал в ворота градских укреплений.
– Неужели новгородцы поверили каким-то диким кудесникам, а не мне, столько лет верой и правдой служившему славному Новгороду!
Добрыня говорил это в сердцах, но лицо его казалось спокойным. Он вообще был не сильно шумливый человек, дядя князя Владимира, посадник новгородский. Однако теперь его обычно ровный голос звучал с надрывом, а темные глаза полыхали жестким, колючим огнем.
Путята же только повторял: всей толпой шли новгородцы за каким-то косматым мужиком, называвшим себя Богаммил, но вроде как еще его Соловьем прозывают, благодаря его речистости да убедительности в словах. Добрыня лишь по колену себя хлопнул. Да Соловейка этот всего лишь бродяга при капищах, даже не служитель ритуалов, а так, бузотер и пьяница. Неужто новгородские купцы позволили ему власть взять?
– Да еще какую! – сокрушался Путята. – Чтобы ты знал, посадник, этот Соловейка теперь главный над всеми волхвами местными. И как выйдет он, как поднимет свой посох – народ и орет, словно каженники. Ну а тысяцкого Угоняя ты знаешь, Добрыня?
Посадник только едва заметно кивнул.
Вот и узнал, что некогда верный ему Угоняй нынче разъезжает повсюду и заводит народ криками, мол, лучше всем словенам погибнуть и уйти в светлый Ирий, чем отдать своих богов и чуров на поругание, как киевляне неразумные отдали.
– И что же ты, Путята, с твоими проверенными дружинниками не мог угомонить этих смутьянов? – глухо, но с нажимом спросил посадник, зыркнув при этом на воеводу из-под наползшей на глаза темной пряди.
Волосы у Добрыни были густые и гладкие, темного соболиного оттенка. Что ему за четвертый десяток перевалило, так и не скажешь, седина лишь на висках немного проступает, да и собой он был прямой, жилистый, крепкий. Бороду носил небольшую, но холеную – заботился о внешности посадник, аккуратно подбривал вокруг губ. Отчего было видно, что рот у него полногубый, сильный и жесткий. Под стать жестким интонациям в голосе. И интонации эти булатом звенели, когда спрашивал, как вышло, что Путята с его витязями не смог разобраться со смутьянами да навести лад. Пусть и с небольшим отрядом воевода отправился в Новгород, ну так все равно его люди в ратном деле умельцами отменными слывут. Того же Угоняя тысяцкого наверняка могли потеснить. И пусть Угоняй сам воевода – Добрыня хорошо его знал, ибо вместе с ним некогда усмирял северные племена эстов и чуди, – все одно и Путята не лыком шит, да и выучка у него и его воинов получше будет. А тут… опять же твердит: исполох меня взял, исполох…
– Ты бы и сам там испугался, Добрынюшка, – понуро твердил воевода. – Новгородцы словно ополоумели от ярости. Скалятся, воют как волки, и все – бабы, мужи нарочитые, купцы нарядные – все как будто с цепи сорвались. Кто с косами явился, кто с каменьями, кто с тесаками булатной ковки… И так лезли на детинец, где я сперва думал обосноваться, что мы еле ноги оттуда унесли. Я ведь всего с тремя десятками отправился, да и ты уверял, что лиха нам не будет. А они… Словно Мара душами новгородцев владела, словно Чернобог заразил их лютью. Отроки безусые и те на моих закованных в булат дружинников кидались, как псы бешеные, грызли им лица, рвали руками, а на себе, казалось, и ран не замечали. А как смеркаться стало, мне даже почудилось, что глаза у новгородцев светятся, как у волков в зимнюю стужу…
– Что ты сказал? – выпрямился до этого понуро сидевший посадник. – Глаза светились?
Он встал, ходил какое-то время от стены к стене. Каморка была небольшая – три шага туда, три обратно. Добрыня метался меж срубными стенами, как зверь в клетке. Дурное ему думалось. Не хотелось в такое верить…
– Что еще скажешь, Путята? – произнес наконец, припав к стене и упершись лицом на скрещенные руки.
– Самой Пресветлой Богородицей клянусь, что не могли мы этих взбесившихся побороть. Ты веришь мне? И хотя многих наседающих мои парни порубили, но и их самих немало полегло. Так что я с оставшимися еле ноги унес. И казалось мне, что даже павшие новгородцы поднимаются и вслед нам смотрят. Очами мерцающими…
– Да не может в Новгороде быть столь сильного чародейства! – ударил кулаком по бревенчатой кладке Добрыня. – Там христиане уже не один год живут, церковь свою возвели. Как раз неподалеку от моего дворища. Я не препятствовал. Сам ведь крещен давно, хотя не больно о том среди мужей наших распространялся.
Путята чуть кивнул. Он помнил, как он сам и многие из дружинников князя Владимира шли в светлых одеждах к святой купели, а Добрыня лишь ворот расстегнул и показал нательный крестик. Тогда многие дивились: ведь когда несколько лет назад князь Владимир в самом Киеве капище главное устраивал, Добрыня ходил туда и смотрел, как требы приносят, а вот же… Уже тогда христианином был.
Сейчас Путята только шеей повел, словно ему ворот давил. Его борода все еще торчала вбок, и теперь было заметно, что половина ее изрядно вырвана. По привычке Путята хотел огладить ее своими большими ладонями, но словно обжегся и отдернул руки.
– Нет там уже никакой церкви, посадник, – молвил глухо. – Да и дворища твоего теремного уже нет. Я как увидел из детинца, что эти лютующие вслед за Угоняем туда ворвались, сразу отправил своих парней помочь, если что, а как началась там настоящая бойня, то и сам поспешил. Вот Коснятина и успел от них отбить. Смеркалось уже, но мальчишка прямо на меня с криком выбежал. И эти… светлоглазые носятся кругом, воют. А вот жену твою…
– Что с ней? – так и не повернувшись, глухо спросил Добрыня, когда воевода умолк.
Тот несколько раз перекрестился и поведал: видел он голову супружницы посадника на пике, носились с ней восставшие по граду. Косы у боярыни Добрыни были знатные, светлые и длинные, вот по ним и понял, что она это.
Добрыня молчал, все еще стоял у стены, уткнувшись в сложенные руки, только дышал шумно. Но потом вроде притих. И лишь через время проговорил низким голосом:
– Ложись-ка спать, Путята. А как отдохнешь и одумаешься, то поутру буду ждать от тебя уже не столь путаные сведения, а с пояснениями: где ныне восставшие расположились, чем владеют в Новгороде и какова там обстановка.
Сам же Добрыня решил пока походить… Думу думать и решать, как поступить теперь.
Добрыня отсутствовал долго, почитай до самой зорьки. Сторожевые на вышках Городища видели, как его силуэт то появлялся на фоне едва светлеющей ленты Волхова, то снова удалялся во мрак. Порой его замечали в той стороне, где высился на капище огромный идол Перуна, – некогда Добрыня сам же и возводил его, чем умилил местный люд, особо почитавший Громовержца. Но что нынче посаднику у идола этого поганого понадобилось?
– Ворожит ли он у Перуна али как? – гадали сторожевые промеж собой.
Окрещенным не так давно дружинникам было неприятно думать, что их Добрыня связан с ворожбой, с темными силами. Но Добрыня всегда был особый. И немудрено – знали люди, что его матерью была известная чародейка Малфрида. Та, что еще Ольге пресветлой служила, потом и Святославу воинственному. Но после гибели Святослава о ней мало что было известно. Сгинула ведьма невесть куда, ни слуху ни духу о ней. Но когда вошедший в силу Добрыня прославился да стал справляться с любым делом, поговаривали, что без ее ворожбы не обошлось. Владимир его очень ценил и слушал, они вместе вернулись от варягов с сильной дружиной, вместе вновь получили власть в Новгороде. Встретили их тут тогда приветливо: новгородцам не больно любо было подчиняться Ярополку Киевскому, которого не знали и которому платить дань не желали. Им свой князь был нужен, Владимир Святослава сын, а в посадники охотно взяли Добрыню рачительного. Вот и собрал Добрыня под руку Владимира силу немалую из окрестных словенских земель, захватили они сперва вольный Полоцк, какой к Ярополку изначально склонялся, а потом и на Киев пошли, на самого Ярополка. Была им удача великая в том походе, свергли они Ярополка, а Владимир занял престол киевский. Люди же говорили: везет им обоим, потому что в них кровь особенная, чародейская, – и в Добрыне, сыне Малфриды, и во Владимире, внуке чародейки. Поэтому оба они вещими могут быть и вызнавать все наперед. Однако когда о крещении князя Владимира заговорили, упоминать о ведьме стало как-то неловко. Она же колдунья темная, с демонами знается, а оба ее родича к светлому Христу подались. Ведь как учит новая вера – все вершится не чарами, а по промыслу Божьему.
Утро над Волховом вставало хмурое, туманное. Добрыня вернулся к Городищу умытый росой, влажные волосы липли ко лбу, глаза же горели ясно, будто не бродил среди предутренних туманов, а спал сладко. А вот кто и впрямь выспался, так это Путята. Добрыня приказал ему спать – он и уснул. Теперь же, когда собрались все, Путята раскатал по столу карту с планами Новгорода и пояснил: люди Угоняя и Богаммила разметали мост через реку Волхов, по которому обычно была связь между двумя частями Новгорода – Торговой и Детинецкой, сами обосновались на Детинецкой, где кремль и усадьбы бояр располагались и где заставы и частоколы самые надежные. При этом восставшие приготовились к нападению: выкатили к реке два камнемета, какие пороками называют, ну и со всей округи натаскали к ним великое множество камней, чтобы обороняться.
– Тут ясно, – отметил Добрыня. – А вот что на Торговой стороне за Волховом?
Путята сказал, что там вроде как потише будет.
– Тогда туда и направимся, – решил Добрыня. – Соберешь, Путята, своих воинских побратимов из Ростова, они у тебя все достойные. И как проведем службу и попросим Бога, чтобы не оставил своей милостью, так и выступим.
Сам же пока к сыну отправился, беседовал с ним какое-то время. А как вышел, то уже и дружинники собрались, пояса затягивали, шлемы поправляли и пришнуровывали. Выглядели так, как будто на сечу отправляются… На Новгород… От этого горько стало на душе посадника Добрыни.
Сейчас все эти закованные в броню воины сошлись на лугу близ частоколов Городища и сам епископ Иоаким провел службу перед выступлением. По-славянски этот грек из Корсуня говорил неплохо, проповедь провел душевно, а когда воины уже на коней садились, остановил на миг Добрыню.
– Ты не сильно на оружие напирай, посадник. Видит бог, тут нужно не грубое вмешательство, а терпеливая проповедь священника.
Добрыня лишь что-то буркнул в усы. Но кое-кого из священников, сопровождавших Иоакима, все же взял, приказав подать им коней. Если в Новгороде то, о чем он догадывается, святая молитва весьма пригодится. Самим Иоакимом он рисковать не мог, оставил ему охрану, да и к каждому священнослужителю уного со щитом приставил. Только молодой дьяк Сава ехал без охраны – он, до того как решил сан принять, слыл неплохим рубакой. И несмотря на то что ликом Сава был чисто ангел – белокурый, ясноглазый, улыбчивый, – в случае чего смог бы за себя постоять.
Отряд миновал вброд воды Волхова, протянулся длинной змеей вдоль речного берега. День был все такой же ненастный, тучи ходили низко, казалось, вот-вот хлынет ливень, но Добрыня догадывался, что эти тучи не пошлют дождь. Когда в сумеречном свете впереди показались бревенчатые вышки новгородской Торговой стороны, посадник весь подобрался. Он ехал впереди воинства, прислушивался чутко. Ибо только Добрыня мог различить то, чего другие не улавливали. Но таким он всегда был. И этой ночью, бродя по окрестностям, понял, что недаром на Путяту и его людей исполох нашел. Они толком пояснить не могли, что случилось, а он и сейчас это чуял – глухой монолитный шепот, словно врезáвшийся в голову, словно приказывавший…
Другие, слава богу, этого не замечали. Ну да крещеные не так и поддаются чарам. А вот Добрыня ощущал этот навязчивый приказ все сильнее по мере приближения отряда к высоким городням Новгорода. Даже мысли стали путаться, голова кругом шла. Посадник заставил себя сосредоточиться на молитве, твердить ее как некое заклинание.
В какой-то миг Добрыню догнал молодой витязь Воробей, сын новгородского боярина Стояна, окликнул посадника, что-то говорил. Но тот был настолько погружен в молитву, что даже не сразу понял, о чем речь, переспросил.
Воробей же пояснял:
– Погляди, Добрыня, ворота в Словенском конце словно без охраны стоят – ни один страж на вышках не виден. Может, они к восставшим на ту сторону Волхова ушли, а может, и еще что. Вот и думаю, а что, если мне с парой воинов забраться на вышки ворот да попробовать отворить их изнутри?
Воробей говорил дело. Он вырос в Новгороде, а когда Владимир шел на Киев, примкнул к его окружению, служил князю верно, с охотой крещение принял. Сейчас, небось, волнуется, что с его родными в Новгороде могло приключиться. Да и справится парень, ловкий он. И Добрыня дал добро. Только добавил, чтобы помолился, когда под стенами окажется.
Но все оказалось даже проще, чем опасался Добрыня. Воробей с подручниками скоро справились, распахнули створки, как будто и не препятствовал им никто. А им и впрямь не препятствовали. Воробей же говорил потрясенно:
– Не поверишь, посадник, но словно уснули там все.
Чего-то подобного Добрыня ожидал. Когда они въехали, то увидели стоявшие вдоль мощеных улиц бревенчатые срубы, открытые лавки и склады, а из людей – никого. И это на Торговой стороне, где обычно такой галдеж и толчея!
Воробей указал на ближайшую лавку – дверь распахнута, изнутри какой-то гул негромкий доносится. А войдя, увидели и хозяина гончарной мастерской, и жену его, и подручных – все стояли лицом к стене, словно рассматривали что-то на бревенчатой кладке, и бубнили негромко. На вошедших никакого внимания.
– Морок на них навели, – сказал своим опешившим спутникам Добрыня. – И морок сильный. Ну да с Божьей помощью…
Кто бы ни наслал этот морок, но когда Сава и иные священнослужители стали обходить окрестности, кропить все святой водой да читать молитвы, местные скоро очнулись. Выходили из строений на мостовую, показывались у проемов дверей и поглядывали на витязей посадника с угрюмым недоверием.
– Как попали во град? – спросил кто-то из местных. – Кто впустил?
– Да сами вошли, – спокойно отозвался Добрыня. – Пока вы спали.
Новгородцы переглядывались, выглядели растерянными. Нечто подобное Добрыня уже видывал ранее, потому и знал, какое недоумение испытывают люди, выйдя из морока. Ощущение такое, как будто отвлеклись, пропустили что-то, не углядели. Но то, что новгородцам внушили невесть что, сразу стало понятно. Узнав своего посадника, они в первый миг даже начали улыбаться, а потом, словно вспомнив что-то, хмурились, отходили, собираясь группами, и смотрели неприязненно. Кто-то все же осмелился сказать:
– Нам говорили, что ты, Добрыня, задумал погубить Новгород. Беду нам несешь.
– Когда это Новгороду от меня худо было? – только и ответил посадник. А сам прочь пошел.
Люди провожали его взглядами, и лица их становились озадаченными, а потом, подумав немного, смотрели уже иначе. И впрямь, разве худо им было при Добрыне? Вон как он город поднял! Несколько лет назад привез им малолетнего сына князя Святослава в правители, но пока тот в возраст не вошел, сам тут всем распоряжался. Да и как распоряжался! Вече всегда уважительно слушал, с людьми нарочитыми не ругался, много свобод граду дал, охранял от набегов окрестных племен да от находников варягов северных. Мир и лад при нем были, люди торговали, работали, богатели. И уже другая мысль пошла по рядам: чего это они Соловейка и Угоняя послушали? Да и где сейчас те Угоняй и Соловейка со своими волхвами?
Люди на Торговой стороне только сейчас заметили, что в этой части града не видно ни стражей, ни нарочитых людей новгородских. И опять вопросы: когда нас покинули все, что никто и не заметил? Спали все, что ли?
Добрыня на людской гомон мало обращал внимания. Пошел мимо бревенчатых изгородей, миновал торжище широкое. Все ему тут было знакомо, каждая лавка, каждый тын у мастерских, кажется даже, что каждая плаха на мостовых была хожена-перехожена. Новгород раскинулся на влажных болотистых землях вдоль Волхова, без мостовых тут было не обойтись, и их стелили-перестилали, почитай, через каждые два-три года. Да и дома ладили-правили нередко – торговым людям града было выгодно показывать свое богатство-благосостояние, а новгородские плотники слыли великими умельцами по всей Руси. Да и сам Новгород считался одним из наиболее значительных градов на пути из варяг в греки. Так что толковыми и богатыми слыли новгородцы. И чтобы их так ловко обвели вокруг пальца?..
– Не иначе как заморочили их, – произнес подошедший к посаднику Путята.
– Догадался наконец, – проворчал Добрыня. – А то все про исполох твердил, как баба какая глупая из чащи лесной. Причем и ты под мороком был, клянусь в том крестом, в который верю! А чтобы христианина чарами заморочить… Тут чародейство не абы какое нужно.
И нахмурился Добрыня, догадываясь, кто обладает столь мощной чародейской силой, чтобы на целый город морок наслать. Вон и сейчас он чует…
Пока же посадник повелел священникам кропить все святой водой, псалмы петь, а потом начать разъяснять новгородцам про новую веру. О том, что зла от нее местным не будет, что останется Новгород вольным и великим, только связи с миром расширятся да торг станет более выгодным и разнообразным. Местные это слушали недоверчиво, потом спрашивать начали:
– А как же боги наши прежние, заступники извечные? Их-то куда?
– А что вам до них, если и им до вас никакого дела?
– А новому Богу есть до нас дело?
– Есть, – отвечали им. – Ибо сказал Он, что всякий, кто в Него уверует, спасен будет.
Добрыня в этих разговорах особо не участвовал. Его сейчас интересовало, как с мятежной Детинецкой стороной совладать. Вот и отправился на набережную Волхова, туда, где некогда большой мост перекрывал реку, соединяя обе части Новгорода – Детинецкую и Торговую. Сейчас же от моста только сваи из речного потока выступали. А вот на другом берегу наблюдалось оживление, там никто не дремал. И, заметив Добрыню, сразу зашумели.
Его распознали, даже несмотря на то, что посадник был в воинском облачении – кольчужная сетка до самых губ подбородок скрывала, наносник с обода шлема лицо почти надвое делил. Но накидку его алую тут все хорошо знали, как и горделивую стать посадника. Стали тыкать пальцами:
– Вон он, явился губитель наших богов!
И рев начался, вой, рык лютый. Люди на Детинецкой стороне стояли стеной, потрясая кулаками. Ну и хоть бы ругались как положено, а то словно дикие звери выли. Добрыня видел на лицах своих дружинников озадаченность, молодой Воробей даже закрестился истово. И этот жест еще пуще обозлил людей на Детинецком берегу. Начали камни кидать через Волхов, тесаками потрясали, дубинами. И, опять же, ревели, рычали по-звериному.
Добрыня только наблюдал. Гулкий шепот-призыв в голове еще слышал, но не обращал внимания, настолько решительно настроен был. А вот на беснующихся на том берегу шепоток явно действовал, бесились от него, были словно в раже некоем, в ярости лютой. Добрыня заметил, как знакомый ему тысяцкий Угоняй повелел метнуть на Торговую набережную булыжник из орудия. Причем указывал прямо на посадника в его алом плаще.
Добрыня на всякий случай сделал пару шагов в сторону и следил, как огромный валун тяжело перелетел реку и плюхнулся у самого берега, обдав илистой грязью место, где он только что стоял. Да, научен кое-чему Угоняй, это вам не какой-то Соловейка из волхвов. Соловейку Добрыня тоже приметил и впервые ощутил настоящее волнение. Сейчас этот волхв был не просто подвизавшийся при капищах жрец, то и дело пьяненький, – теперь в нем ощущалась сила. И когда он начал что-то выкрикивать, вскинув руки с зажатым посохом, Добрыня почувствовал, как на него как будто ветром холодным повеяло, да так, что под его напором ему пришлось попятиться. Ого, вот, значит, как! Наделили немалой силой чародейства назвавшегося Богаммилом Соловейку!
Путята увлек посадника от разбитого булыжником берега.
– Ты что, совсем сдурел, Добрыня?! Зачем злишь их? Они ведь бешеные, а ты им нынче хуже онегрызки жестокой!
– Больше не буду, друг Путята. А эти пусть еще побесятся немного. Трогать их пока не велю. Нам самим тут управиться надо, чтобы местные в спину не ударили. И службу пусть проведут. Хорошо проведут, во славу Господа нашего, чтобы с песнопением и курением ладана, с молитвой истовой.
И пошел прочь. Ибо сейчас его больше всего интересовало, как новгородцы Торговой стороны отнесутся к речам о христианстве.
Служба христианская жителям Торговой стороны понравилась – собрались, смотрели, слушали. Но потом каждый пошел в свою сторону. Священнослужители же последующие два дня ходили по торжищам и улицам, поучали людей, рассказывали о новой вере, об Иисусе Христе, о его наставлениях быть милосердным, о прощении и усмирении гордыни… На них поглядывали недоуменно. Не все, конечно. Бабы и молодицы, какие слушали пригожего дьяка Саву, даже всхлипывать начинали умильно. Старикам понравилось, что после крещения они попадут в такое небесное царство, какому и Ирий светлый не чета. Но большинство мужиков и отроков лишь пожимали плечами. Как же это – подставить щеку, когда тебя по морде двинут? Это значит слабость проявить. А слабыми быть новгородцам не хотелось.
Добрыня велел сосчитать тех, кто веру принял, – немногим более пары сотен человек выходило. И то ладно.
– Ну что же, не хотят ладком, значит, покажем силу, – решил Добрыня. – Помолимся, а там, благословясь, начнем порядок наводить.
Что там епископ Иоаким говаривал, когда они в Новгород из Городища выезжали? Терпеливая проповедь нужна? Вот они и проповедовали. А теперь пора настоящим делом заняться.
Добрыня выбрал для вылазки раннее время, однако в аккурат после того, как петухи пропели зарю. Люди в этот час обычно сонными и вялыми бывают, однако и темная сила на убыль идет. Вот и надеялись, что, когда Путята с его ростовчанами минуют реку, им не так сложно будет сонную Детинецкую часть града под себя подмять. Добрыня через Волхов наблюдал, приглядывался, прислушивался… И едва не вскрикнул, когда в голове ухнуло, словно его оглушили приказом темной ярости. Даже застонал сквозь зубы. А у срубов и частоколов на той стороне такое началось!..
Более часа витязи Путяты не могли даже протиснуться в проходы между строениями Детинецкой стороны – так на них наседали озверевшие новгородцы. Но и дружинники ростовские не сдавались. Стали стеной щитов, сдерживали бешеный напор, из-за их строя лучники метали стрелы в толпу. Промазать тут было трудно, каждая стрела в этой толчее разила кого-то из вопящих. А когда новгородцы, теряя столько людей, все же отступили, то на них уже и мечники пошли наседать, разили люто. И при этом кричали: «С нами Господь!»
Этот клич с упоминанием нового Бога особо разъярил язычников. Озверевший тысяцкий Угоняй немало дружинников ростовских уложил, пока его самого не снесли стрелой. И раненого, ругающегося, как черт, потащили к Добрыне.
– Вот, посадник, погляди на погубителя супружницы твоей. На кол его велишь посадить или как?
– На кол и немедля, – даже не глянув на отплевывающегося кровью бывшего соратника, сказал Добрыня. – Ну а Соловейку кто видел?
– Да спрятался он за спинами людей. Ишь сыч! Он своих оглашенных на наши мечи посылает, а сам схоронился за частоколами детинца.
– Тогда поджигайте детинец!
На какой-то миг возникла пауза. Наконец кто-то сказал:
– Как же поджигать? От детинца огонь на другие постройки перекинется, на терема, на усадьбы градцев.
– Вот пусть и позаботятся, чтобы добро их не сгорело. А волхва Соловейку постарайтесь добыть. Или пусть сгорит в детинце.
Но хитрый волхв, называвший себя Богаммилым, успел скрыться, когда все вокруг заполыхало. Огонь во граде отвлек новгородцев от противостояния Путяте. Они кинулись к своим домам, голосили отчаянно, причем скоро сами стали взывать с просьбами о пощаде к посаднику, словно и не они же восстали против него.
– Что же ты творишь, Добрыня! Там наше жилье, наши чада, отцы и матери, жены! Прекрати немедля, если хочешь мир с нами наладить.
Ну хоть говорили уже по-человечески, а не выли, как зверье дикое.
Добрыня сперва как будто и не слышал их мольбы. Снял островерхий шлем, прислушался. Огонь гудел, люди кричали, но чтобы в голову какой-то мерзкий шепоток проникал – так в шуме этом и не различить. А может, и сходит морок. Добрыня очень на это надеялся. И приказал своим людям выстроиться цепочкой от самого берега Волхова и передавать кадки и ведра с водой, чтобы помочь градцам побороть быстро расходящийся огонь. Так совместными усилиями и справились.
Ближе к вечеру, когда дымы над градом развеялись, а много дней покрывавшие небо тучи разошлись и янтарные лучи солнца осветили округу, Добрыня повелел гнать новгородцев к водам Волхова.
Выступил перед ними.
– Вот что скажу, люди: крестить вас сейчас будут! Крестить быстро и не спрашивая вашей воли. А как попадете под власть Христа светлого, я прощу вас за все былое, за своеволие и кровь пролитую. Если же кто из вас заупрямится… Что ж, мечи у людей Путяты еще от крови не высохли, вот и велю рубить несогласным буйны головы.
До самой темноты загоняли новгородцев в воды Волхова и при свете множества факелов продолжали насильно крестить их. Добрыня не бросал пустых слов, так что кое-кого из тех, кто вырываться и вопить начал, тут же обезглавили. После этого люди предпочли подчиниться.
Мужчин сгоняли в воду выше свай разрушенного моста, а их жен ниже по течению. Священники творили обряды, а выходящим из холодной по весенней поре реки ошеломленным градцам тут же надевали кресты на шеи – кому деревянные, кому из олова, а кому медные. Благо, что этого добра Добрыня велел заранее заготовить, еще когда к Новгороду шли. Причем новообращенных предупреждали, что кто крестом отмечен, того старые боги уже не примут. И остается им теперь уповать на великого и милосердного Иисуса Христа. Только он им отныне заступником будет.
Верили ли в то люди? Сейчас они больше верили грубой силе. Да и спастись хотели, ибо видели, что тех, кто с крестом, ни Путята, ни Добрыня не велели трогать. А кого из вышедших из Волхова без креста замечали… то и зарубить могли. Уж лучше с крестом.
Три дня продолжалось это крещение. На колу в медленных муках умирал тысяцкий Угоняй, но на него уже не смотрели. Он стал прошлым, а вот то, что Добрыня велел выкатить меды стоялые и пиво хмельное и угощать всех, кто уже крещение принял, людям понравилось. И, как обычно бывает, многие даже повеселели, не вспоминали о прошлом.
Наконец Добрыня решил, что в городе достаточно спокойно, чтобы послать за епископом Иоакимом. Тот явился величественный, но приветливый, говорил с людьми участливо, улыбался мягко. Но опешил, когда только что смиренно принимавшие его новгородцы вдруг кинулись к капищам, где Добрыня как раз велел поджечь деревянные изображения старых божеств, а каменные выкорчевать и кинуть в Волхов. И пусть в последние дни на капище никто не ходил, но теперь люди стали причитать и рыдать, глядя, как их недавних кумиров поглощает пучина.
Добрыня еще со времен крещения в Киеве помнил, как народ бежал следом за уносимым днепровской волной идолом Перуна. Здесь наблюдалось почти то же самое. Эти тоже покричат, попричитают с перепугу, да и успокоятся.
А вот Путята волновался:
– Не поторопились ли мы, посадник? Так можно и озлить людей. Думаю, следовало бы немного повременить и просто стражу выставить у капища, не пускать никого к идолам этим поганым…
– Не могу я тут долго суды судить да ряды рядить! – неожиданно резко отозвался посадник. – Мне поторопиться надо, чтобы потом…
А что за этим «потом», не сказал. Зато выехал к Волхову на своем белом как сметана жеребце, гарцевал на нем и выкрикивал, перекрывая стенания новгородцев:
– Что, безумные, сожалеете о тех, кто себя оборонить не может? Какую пользу вы ожидаете получить от них? Идол он и есть идол бездушный. А Христос с небес все видит. Своими рыданиями вы его и рассердить можете.
Опасались ли новгородцы гнева нового Бога, которому их насильно отдали, или, будучи людьми толковыми и понимающими выгоду, предпочли не перечить грозному посаднику, но постепенно они стали расходиться. А там и на новое гуляние явились – Добрыня ведь не скупился, щедро пировал с теми, кто своеволия не проявлял.
Зато вскоре узнал, что пару его священников эти упертые порезали. Одного насмерть, а вот ловкий дьяк Сава отбиться смог. Ну а потом весть пришла, что нашлись и такие, кто покинул Новгород. Уехали целыми семьями, и новгородские сторожа-объездчики нашли на путях вдоль Волхова брошенные на землю кресты.
Епископ Иоаким к этому отнесся на удивление спокойно.
– Пусть. Мы не можем спасти того, кто не хочет быть спасенным, – сказал он. – Сами же с крещеными лаской и заботой будем сближаться, добро им делать. Людей это успокаивает. А как возведем в городе новый храм Божий, градцы волей-неволей заинтересуются, станут приходить. И вот тогда… Ведь не так важно, как человек приходит к Богу, главное – что приходит.
– Не все так просто, преподобный, – угрюмо заметил Добрыня. – Вера христианская сильна, когда многие в нее верят. А когда люди растеряны, они кому хочешь поклоняться будут. И еще не один год мы будем завоевывать их души да отвлекать от насланных чар.
– О каких это чарах ты говоришь, посадник?
Что мог ответить ему Добрыня? Иоаким – верующий человек, он не может чувствовать то, что чует сын ведьмы. А он чуял зло, чуял морок, который ощущался время от времени, словно капли мелкого дождя, какие то появляются, то исчезают, когда ветром новой веры их сносит. Да и волновало посадника, что волхв Соловейка пропал. Этот может еще немало зла натворить.
Волхва взялся разыскать молодой новгородец Воробей Стоянович. Не мог парень простить, что всю его семью по приказу Богаммила порезали. И не потому, что те Христу были привержены, а потому, что он, Воробей, при князе Владимире состоял и крещение вместе с ним принял.
Теперь же Воробей рыскал по округе, пока в одном из селищ не наткнулся на творившего ворожбу волхва. И встреча их непростой вышла – Воробей, когда приволок связанного Соловейку в Новгород, весь был подран и исцарапан, как будто с рысью дикой схлестнулся.
– Он меня чарами прямо через коряги и терновые заросли таскал, пока я молитвой его колдовство не ослабил, – нервно похихикивая, заявил парень.
Волхва окропили святой водой, молитвы над ним читали, а он выл и катался по земле как бесноватый. И лишь когда в беспамятство впал, Добрыня сошел к нему в поруб. Отлил бесчувственного водой, рассматривал при свете факела.
Соловейка смотрел на него снизу, слабо постанывая.
– Что скажешь, ведьмин сын? Каково это – своих предавать? – прокряхтел через время.
– Это кого – своих? Тебя, что ли, червь раздавленный?
– Ты кровь свою предал. Силу, что тебе богами была дана.
– Ну, моя-то сила всегда при мне.
– Не скажи. Ты могуч был, ты самого князя Руси под пятой держал. И ты это знаешь. Как и знаешь, что благодаря своей крови чародейской мог бы возвыситься как никто иной.
– Ну и зачем?
Этот его вопрос заставил волхва опешить. Он попытался привстать, но Добрыня пинком свалил его обратно.
– Ты от силы и власти отказываешься? – пораженно вымолвил зло ощерившийся волхв.
– Зачем же отказываться? Все, что хотел, я и так имею.
– Это ты сейчас так думаешь, посадник. Но однажды…
– Да ничего не будет однажды. Все уже свершилось.
– Не скажи, – гаденько засмеялся Соловейка. – Ничего еще не свершилось. Ибо наложено заклятие страшное, от которого морок над всем словенским краем будет силиться, а от него станет нарастать ненависть к тебе и крещенным тобой. Долгие годы ты будешь жить в бесконечной войне со своими же. Ибо люди вновь и вновь станут бороться с тобой и не будет тут покоя и лада. А все по твоей вине… Есть силы, какие и тебе не побороть. Так что ждут тебя ненависть и предательство. Ну а люди рано или поздно отвоюют свое. Им так велено. Они под чарами такой силы, какую и тебе не побороть.
Добрыня ощутил, как его пронзил озноб – даже пот холодный выступил. Ведь чего-то подобного он и побаивался. И как теперь поступить? Вести до седых волос борьбу против своих же замороченных людей, зная, что конца и края этому не будет?
– Мне немало с чем приходилось справляться на своем веку, Соловейка, – произнес посадник как можно спокойнее. – И, как видишь, удача моя всегда при мне. Вот и ты подчинишься мне и все расскажешь. И кто край заморочил, и кто этакую силу тебе, тщедушному, дал. Когда начнут тебя щипцами рвать да огнем жечь, ты заговоришь…
Волхв вдруг зашелся неожиданно громким, злым смехом.
– Давай, посадник, зови своих палачей! И уж я им все скажу. Но и о тебе скажу, и о том, как ты кровно связан с той темной силой, какая нынче властвует тут. Догадываешься, о ком я? Думаю, сам уже все понял. А вот твоим людям неплохо будет узнать, что ты с мороком этим темным связан как по крови своей, так и по умению. Вот только как ты после этого своим христианам в глаза смотреть будешь? Кто после этого тебе поверит? Кто за тобой пойдет?
И тут выдержка впервые изменила Добрыне. У него дернулся рот, темные очи вспыхнули колючим блеском.
– Ну, если так… то и без палачей обойдемся.
Волхв и углядеть не успел, когда Добрыня выхватил из-за голенища сапога нож и резким взмахом перерезал ему горло. Соловейка захрипел, забулькал бьющей из страшной раны кровью, глаза его вытаращились. И так и застыли, слепо глядя, как Добрыня, спокойно вытерев нож о его рубище, начал неспешно выбираться из поруба.
– Пришлось прирезать Соловейку, – только и сказал ожидавшим снаружи стражам. – Закопайте где-нибудь, чтобы никто не знал.
Сам же поднялся на стены городни и долго смотрел на молодой месяц в вышине. На Руси исстари было принято новое дело начинать по растущему месяцу. Вот и ему следует не мешкая взяться за то, что задумал.
На совете людей новгородских Добрыня говорил неторопливо, но непреклонно: он уедет на какое-то время и пусть никто не спрашивает куда. Вместо себя посадником оставит новгородца Воробья – парень толковый, знает все во граде и справится. Воеводой будет Путята, тут и гадать не надо. А епископ пусть начинает собирать мастеровых людей да возводить храм. Новгородцы – строители умелые, подзаработать на возведении храма не откажутся, если им хорошо заплатить.
– Не дело это – покидать нас сейчас, Добрыня, – задумчиво произнес Иоаким. – Тут такое творится, столько сделать нам надо! А ты… Говорю же, не дело ты задумал.
Добрыня вынул из уголка рта соломинку, поглядел исподлобья на епископа.
– Дело, преподобный, как раз дело. И если справлюсь… Если разберусь кое с кем, ты лично мне грехи отпустишь. Как бы тяжелы они ни были.