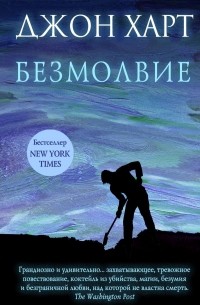Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
Глава 7
1931 год
Повелитель Леса
Как и многие мальчишки того трудного времени, Рэндольф Бойд слишком хорошо знал, что такое холод и голод. Старики винили экономику, Большую войну или то, что они по привычке называли Крахом 29-го, но все это было пустым звуком для Рэндольфа и двух его лучших друзей или других мальчишек округа, чьи дома опустели больше, чем другие. Конечно, война оставила без отца не только Рэндольфа, но ему пришлось труднее, чем, например, Чарли с той же улицы, чей отец успел заслужить медаль перед смертью, или Герберту, родитель которого поймал пулю, сражаясь с французами на Сомме. Отец Рэндольфа вернулся с войны живым, но в конце концов война все же убила его. Германская пуля снесла ему пол-лица в октябре 1918-го, за три недели до того, как все кончилось, и другие отцы возвратились домой целыми, а не с раной такой глубокой, что никакая любовь не могла залечить ее.
Именно так и случилось с отцом Рэндольфа. Не помогла ни милая жена, ни родители, гордившиеся сыном, но и переживавшие за него в душе. И даже ясная улыбка сына, слишком юного и невинного, чтобы увидеть и осознать ужас отцовского лица, не могла рассеять тень, затаившуюся в его глазах. По словам Герберта, слышавшего это от своей матери, возвращение домой затянулось на три месяца, прежде чем ружье появилось из-под кровати, которую муж и жена отчаянно пытались использовать по назначению. Но какая женщина сможет целовать такое лицо? Эти слова прошептала темной ночью мать того же Герберта, когда думала, что дети давно спят. Рэндольфу было тогда девять, но даже и теперь, через пять лет, мысль о том, что последний, роковой, шаг сделала его мать, терпеливая женщина, рубившая дрова и таскавшая лед, пока щеки ее не впали, как пробитый торпедой борт военного корабля. Глядя на нее теперь, Рэндольф думал: «А ведь ей всего тридцать один». В сером свете у холодной плиты мать выглядела полумертвой, и ее тонкие, как палки, руки дрожали, когда она, чиркнув спичкой, пыталась поджечь растопку.
– Дай-ка мне.
Рэндольф взял спички, чиркнул и поднес спичку к скомканной бумаге. Старые часы на полке показывали 4:55 утра. По оконному стеклу стучал снег.
– Приготовлю завтрак, пока не ушел.
Мать выпрямилась и принялась искать что-то в пустых шкафчиках. Она сказала завтрак, но имела в виду муку, свиной жир и последние обрезки бекона.
– Они вот-вот придут, – сказал Рэндольф.
– Но пока-то не пришли.
Мать словно не заметила проступившего на лице сына нетерпения, и он снова прильнул к окну – и только потом сел за маленький стол, сервированный двузубыми вилками и поцарапанными металлическими тарелками. Отцовский стул давно убрали, так что их осталось два. Возле второго стоял тот самый «Спрингфилд», с которым отец пришел с войны и которым двенадцать лет назад воспользовался в последний раз, чтобы снести себе остатки черепа. Стрелять Рэндольф умел лучше многих. Он выигрывал соревнования на окружной ярмарке, а два года назад принес домой индюшку на тридцать фунтов, перестреляв самого мэра. С винтовкой Рэндольф обращался с семи лет. Теперь он еще раз проверил, все ли в порядке. Лязгнул металл, в воздух поднялся запах машинного масла. Щелкнув последний раз затвором, он зарядил пять оставшихся патронов и, взглянув на мать, прислонил оружие к стене. Год назад она сказала сыну найти для винтовки другое место, но холод и голод не оставили сил, чтобы настоять на своем.
«Слабеет», – подумал Рэндольф.
Слабели они оба.
– На вот тебе. – Мать шлепнула на тарелку ложку кукурузной каши. – Ешь, пока горячая.
– А ты не будешь?
– Неголодная.
Усталая, натужная улыбка словно расщепила ее лицо. Рэндольф посмотрел матери в глаза. Там была жизнь, и там была любовь. А на его тарелке лежала последняя в доме еда.
– Поешь немножко, – сказал он. – Чтобы я не беспокоился.
– Ладно, малыш. Может быть, чуточку.
Мать села рядом с ним, и они поели с одной тарелки. Каша была местами черная, но это же самое лучшее – подгоревший жир. Оставив на тарелке последний черный комочек, Рэндольф толкнул ее через стол.
– Я сыт, – сказал он и поднялся раньше, чем она успела возразить.
– Пора?
– А ты не слышишь?
– Что?
– Как скрипит левый сапог Герберта.
– Ты в самом деле это слышишь? А я нет. И… – Она остановилась, увидев, что он улыбается. – Дурачишься.
– Совсем чуть-чуть. – Рэндольф взял ружье и поцеловал ее в щеку. – Встречу ребят на дорожке. Доедай. – Он показал на последний комочек каши на тарелке и увидел, что мать плачет. – Все будет хорошо. Со мной идут Герберт и Чарли. У нас оружие.
– Ты же знаешь, что говорят об этом месте.
Ее глаза блеснули в тусклом свете, и в наступившей за ее словами тишине снег застучал сильнее по стеклу.
– Эти цветные – вполне приличные люди. Не думаю, что они нас обидят.
– Я не о них говорю, и ты это знаешь.
– Нам нужна еда.
– Знаю, что нужна. Но разве обязательно охотиться там?
Она выпрямилась, и в ней на мгновение проступила прежняя твердость. Рэндольф хотел ответить, успокоить, но они оба знали правду.
– Больше охотиться негде. Даже кроликов и тех почти не осталось, а ты знаешь, что говорят про кроликов. – Он думал, что шутка заставит ее снова улыбнуться или отчитать его за мальчишескую дерзость. Но ей было не до этого из-за голода и страха. – Дело не только в нас. Надо думать и о других.
Рэндольф имел в виду Чарли и Герберта, старых друзей, чьи семьи тоже голодали. В таком же положении был весь округ – из-за безработицы, бедности и холодной зимы, которая никак не кончалась.
– На болоте легко заблудиться, – сказала мать. – Некоторые возвращаются едва живые, полоумные, а другие до сих пор шарахаются от тени и рассказывают такое, что жуть берет.
– Знаю. Но со мной ничего не случится.
– Обещай, что будешь осторожен.
– Буду.
Она взяла его за руку. В кухне горел огонь, но рука у него все равно была холодная.
– Держись подальше от цветных. И берегись тонкого льда.
– Все промерзло. Никакого тонкого льда уже нет.
Он думал, что логика поможет, но в ее глазах и морщинках снова блеснули слезы.
– Чарли может заблудиться, – напомнила мать. – Он все время путается, а Герберт неловок с ружьем, так что держись позади него или сбоку.
– Знаю. Я о них позабочусь.
– И еще одно. – Мать сунула руку в карман фартука, достала латунную зажигалку и протянула сыну. – Твой отец принес ее с войны, и она была очень дорога ему. – Она поправила на сыне куртку, разгладила, обтянула. – На прошлой неделе я заправила ее в городе, думала отдать тебе. Он был хороший человек, твой отец. Если б не война, если б не то, что она сделала с ним, он никогда не оставил бы нас. Хочу, чтобы ты верил, когда я это говорю. Ты можешь сделать это для меня? Можешь верить мне, когда я говорю, что так оно и есть? Что он был хорошим человеком?
Рэндольф смотрел на металлический цилиндр, недавно отполированный, но старый, в царапинах и вмятинах. Зажигалку он помнил смутно – какие-то воспоминания сохранились, но они были скорее воспоминаниями о давней мечте. В любом случае он мог представить отца, каким тот был ближе к концу; помнил, как отец сидел перед камином с зажигалкой в руке, в вязаном шарфе, скрывавшем изуродованную половину лица. Он крутил зажигалку в длинных пальцах, наблюдая за отсветом пламени на металле. Да, отец, наверное, дорожил этой штуковиной – тут мать была права, – но в какие бы места ни уводили его эти блики, какие бы воспоминания ни пробуждали, ничто не остановило его, когда он встал на колени у реки и вышиб себе мозги вместе с макушкой.
Во дворе Рэндольф поднял воротник, защищаясь от снега, прошел к дорожке и, оглянувшись, посмотрел на дом. Маленький, некрашеный, он был одного цвета со снегом, слякотью, старым амбаром и замерзшим железом. Ветер подхватывал выходящий из трубы дым, и Рэндольф помахал матери, неясной фигурке за замерзшим стеклом. Она помахала в ответ. Глядя на нее сквозь падающий снег, он чувствовал, как снежинки ложатся на плечи и шапку. За два месяца ветер намел сугробы к стене дома и старой, ржавеющей во дворе машине. Рэндольф поднял руку повыше и направился к дороге, зная, что если задержится, мать так и будет стоять у окна, пока не потухнет огонь и из кухни снова уйдет тепло.
Спрятав под шарф подбородок, он неслышно зашагал по снегу. За спиной у него висел рюкзак, а в нем – брезент, одеяла и куски вощеного холста, завернуть мясо и не дать просочиться крови. Винтовка – прикладом вверх, чтобы снег не попал в дуло, – оттягивала левое плечо. У края дороги он оглянулся в последний раз, но дом скрылся за белой пеленой, что было только к лучшему.
Герберт и Чарли уже ждали его, и представшая глазам Рэндольфа картина не вписывалась в рамки здравого смысла.
– И всё? Это всё, что вы взяли?
Он ткнул пальцем в Чарли, щуплого, обидчивого мальчишку с узким лицом и карими глазами. Шустрый и сообразительный, но беззаботный и рассеянный, он совсем утонул в отцовской вощеной куртке.
– Я справлюсь, – сказал Чарли. – Ты же сам знаешь.
– Дай сюда. – Рэндольф забрал у него ружье, осмотрел со всех сторон и с недовольной миной вернул владельцу. – Двадцать второй. Мелкашка.
– Думаешь, я сам не знаю? Ну ты даешь…
– И кого ты собираешься убивать из этой штуки? Белок?
Чарли закинул ружье на плечо.
– Отец спит, а карабин у него возле кровати. Сам знаешь, он от малейшего шума просыпается. Он и так взъярится, что я у него куртку и флягу взял. А если б поймал с его любимым стволом, исполосовал бы ремнем вдоль и поперек, и что бы вы тогда делали?
Чарли был прав. Джакс Картер славился буйным нравом и однажды избил человека до полусмерти лишь за то, что тот нечаянно задел его чашку с кофе. Причем случилось это воскресным утром возле баптистской церкви. Из-за позаимствованной куртки у Чарли могли возникнуть проблемы. Из-за карабина его могли убить.
– И вообще, ты посмотри лучше на этого придурка. – Чарли показал на Герберта, у которого не было вообще ничего, кроме фляги и почти пустого рюкзака.
– Что такое? – спросил Рэндольф. – Где твой дробовик?
Его явное неудовольствие и разочарование не повергли Герберта в трепет. Рэндольф был старше, но в прочих отношениях и в драке они не уступали друг другу. Стычки между ними случались, но по большому счету эти двое были почти братьями. Оба родились в одной и той же больнице, только с разницей в две недели, оба одинаково крепкие и голубоглазые. Рэндольф был, наверное, чуть сильнее, но Герберт смышленее, и все это знали. Учителя. Родители. Спокойный голос и ровный взгляд – так он познавал мир.
– Патронов нет. Что толку тащить ружье без патронов.
Спорить Рэндольф не стал. Патроны к дробовику попадались так же редко, как и деньги, и те, у кого водились лишние, дорожили ими, словно золотыми монетами. Он сам видел, как за один патрон купили шерстяные варежки, кадку масла и пару старых очков. Без патронов невозможно охотиться, а без охоты бедно на столе. У Рэндольфа осталось пять патронов для «Спрингфилда», и он представить не мог, что будет делать, когда они кончатся. По ночам он молился, чтобы поскорей пришла весна, чтобы лето принесло урожай и какую-нибудь работу. Он мог писать, и считать, и делать все то же самое, что и любой взрослый мужчина из местных. Вот только работа в здешних местах встречалась так же редко, как патроны, кролики и шоколадки.
Чарли топнул ногой по снегу.
– Так мы идем или как?
Рэндольф бросил взгляд на дом, надеясь, что мать слишком далеко и не видит, с каким вооружением они выступают. Она бы разволновалась, но давать задний ход было уже поздно. Он пожал плечами.
– Тут еще и голыми на охоту ходят.
– Может, и так, да только Уиллис Дред с сыном не вернулись до сих пор с чертова болота. А те парни, что вернулись, сидят у окон в дурдоме и слюни пускают.
Рэндольф понимал все, о чем говорил Чарли. Люди уходили и пропадали без вести, а некоторые из тех, что возвращались, рассказывали о неграх, глубоких заводях и плывунах. Восемьдесят лет назад в тех лесах вешали рабов, и кое-кто считал, что злые духи до сих пор бродят по пустоши из конца в конец. А как еще объяснить исчезновение Уиллиса Дреда и его сына? Как объяснить, что парни Миллеров блуждали пять дней, а когда вышли из болота, только мычали и роняли слюни? Каждый предлагал свою теорию, но правда заключалась в том, что правду не знал никто. Может быть, на болоте водились олени, а может быть, нет; может быть, Уиллис Дред покончил с собой в отчаянии, прихватив сына, и, может быть, парни Миллеров еще раньше тронулись рассудком и лишь искали повод заявить об этом миру. Рэндольф размышлял об этом долго и упорно и пришел к выводу, что эти объяснения ничем не хуже других. Люди глупы и суеверны. А кроме того, была и правда попроще.
– Моя мать больше месяца не протянет, и у Герберта дома положение не лучше. А что у тебя, Чарли? Как твоя мама? Сыта и довольна? Лопает булочки с ветчиной? – Друзья уставились друг на друга, но игру в гляделки выиграл Рэндольф. Он дернул плечом, поправил ружье. – Ничего другого не остается. Ни у кого из нас.
Когда топаешь по снегу, дорога кажется длиннее. Она цеплялась за ноги, волочилась, приглушая звук. Растянувшиеся в линию заборы едва виднелись вдалеке, как и три последних дома; и те и другие растворялись в тусклой серой мути. Все трое мальчишек жили в северной части округа, на границе обжитого края, там, где заканчивалась дорога и начиналась болотистая пустошь, тянущаяся к далеким холмам. В округе этот район считался беднейшим, и только жившие там находили основания для какой-то гордости. Для городских они были грязной, невежественной беднотой. Цветные, белая шваль – для тех, у кого отцы, машины и теплые дома, они были одинаковы. Рэндольф понимал свое место в раскладе вещей, но, как и другие, оказавшиеся в северной глуши округа Рейвен по собственному выбору или занесенные туда силой обстоятельств, он гордился как самим этим местом, так и теми, с кем его делил. Грубоватые, немногословные, терпеливые, они считали городских – с их электричеством, ле́дниками и купленным в магазине мясом – народом мягким, изнеженным. Если зависть и присутствовала в характере Рэндольфа, он предпочитал ее не слушать. У него были друзья, была мать. К тому же в городах голодали тоже.
Так повелел великий уравнитель.
И как его ни назови, он обрушил всю страну.
Даже здесь, в этой глуши, жестокая правда являла себя со всей очевидностью. Не спасали даже громадные состояния; мужчины в больших северных городах выбрасывались из окон. Довольно долгое время дело не шло дальше разговоров, но потом нагрянула беда. Раскатившиеся из Нью-Йорка волны погребли под собой все хорошее. Пропали деньги. Закрылись магазины. Лишь у немногих в городах сохранился здоровый румянец, но границы различий стирались, и Рэндольф считал, что так и надо. Пусть попробуют, что значит ложиться в холодную постель, а проснувшись, получать на завтрак подгоревшую кашу… В груди распустилось какое-то теплое чувство, и он понял – да, наверное, зависть. Ему едва исполнилось четырнадцать, но он уже потерял два зуба. Скорбут, так это называлось. Еще одно модное словечко вместо другого, понятного всем, – «голодуха».
На несколько долгих минут эта мысль придавила его тяжелой тенью, но тень рассеялась, когда они приблизились к тому месту, где кончалось шоссе. Дальше проселочная дорога вела к Хаш Арбор, где с 1853 года жили освобожденные рабы и их потомки. Рэндольф бывал там лишь однажды, когда мать ездила менять нитки и иголки на семена и мед. Жившие в Хаш Арбор разговаривали по-особому, так что понять их было трудно. Дома представляли собой некрашеные лачуги, но у них были огороды, церковь, коптильня. Держались они вполне дружелюбно, но тогда и время было другое, лучше нынешнего. Теперь доверие стало редкостью, и в последнее время – в тех редких случаях, когда он видел цветных на дороге или в лесу на границе болота – они держались настороженно и на чужих смотрели исподлобья. Это Рэндольф тоже понимал. Заботиться о своих. Держаться вместе. Он сам чувствовал то же самое в отношении Чарли и Герберта.
– Что будем делать?
Чарли задал вопрос, который был на уме у каждого. Дорога вела в Хаш Арбор, и белых мальчишек, собравшихся поохотиться на болоте, никто из живущих там с распростертыми объятиями не ждал. На востоке была река. Они могли бы повернуть вправо, пройти две мили через лес и продолжить путь на север вдоль берега. Но потом река все равно сворачивала к Хаш Арбор. Рэндольф посмотрел туда, потом повернулся налево. На западе лежали развалины плантации Мерримонов. Дом сгорел в 1854-м, но каменный фундамент сохранился, как сохранились и развалины давно обрушившегося амбара, колодец и темные контуры стоявших там когда-то жилищ для рабов. Этот маршрут вглубь болота был длиннее первого, но когда Рэндольф выбрал его, остальные присоединились. Пройдя примерно милю, они миновали руины и направились через поле к краю леса, а потом повернули на север. Еще три мили шли вдоль леса, а когда позади остался последний холм, Рэндольф почувствовал под снегом крепкий, скользкий лед. То был край болота, занимавшего площадь более пятидесяти квадратных миль. За ним, к востоку, были река и равнина, а к северу не было ничего, кроме леса, камня и ветра.
– Замерзаю…
Рэндольф посмотрел влево и нахмурился. Прозвучавшая в голосе Чарли ноющая нотка резанула по нервам.
– Конечно. Сейчас зима, а зимой холодно.
– Не, тут кое-что еще. Вот смотрю туда, и яйца съеживаются.
Чарли говорил о том месте, где лес встречался с болотом. Деревья стояли серые и голые, и кое-где между ними из-под снега черными полосами проглядывал сковавший лесную подстилку лед. Здесь был край болота. Дальше от края мелкая поросль разрасталась и сгущалась настолько, что местами сплеталась в плотную стену из вьющихся стеблей и колючек. В теплые месяцы твердь раскисала; грязь и стоячая вода образовывали лабиринт, столь запутанный, что затеряться в нем мог любой. Ребята приходили сюда порыбачить, пострелять белок. Визиты эти бывали короткими и походили на флирт, танец у края, и болото отвечало им тем же. Мальчишки видели рысей и королевских аспидов, а однажды даже углядели мелькнувшего за кустами ежевики медведя. Ради этого они сюда приходили, в этом был весь смак. Но теперь дело обстояло иначе. Не тяга к приключениям выманила их из дома и привела сюда – их пригнали отчаяние и нужда. Громадное, суровое, пустынное, болото лежало перед ними, и каждый чувствовал себя щепкой на его фоне. Рэндольф посмотрел по очереди на каждого из приятелей. Явно напуганный Чарли притих и лишь переминался с ноги на ногу да вытирал текущий нос заледенелой рукавичкой. Герберт держался лучше, и взгляд его оставался решительным, хотя привычной уверенности ему, может быть, и недоставало.
– Герберт?
Рэндольф обратился к другу, потому что не хотел брать всю ответственность на себя. Пока они стояли, снег пошел сильнее, и температура заметно упала. Прошло три часа, а они уже замерзли, и Рэндольф знал, что дальше будет только хуже. Поднимался ветер, и болото не сулило ничего хорошего. В голову настойчиво лезли мысли о пропавших мужчинах и потерявших рассудок мальчишках, и вопросы, ставшие внезапно реальными, давили своей тяжестью. Но Герберт, если у него и завелись подобные опасения, ограничился, как обычно, беззаботной улыбкой и, повернувшись, подставил лицо под падающие снежинки.
– Отличный денек для прогулки, – только и сказал он. Рэндольф кивнул и шагнул под деревья. Друзья последовали его примеру.
К двум часам беспокойство накрыло их, словно промерзшее одеяло. Обнаружить не удалось даже малейшие признаки какой-либо живности. Тишиной и покоем болото напоминало кладбище – лишь шум ветра да скрип снега под ногами.
– Это ненормально, – в пятый уже раз повторил Чарли. – Уж что-то должно было на глаза попасться.
Слова его утонули в снегу. Никто не ответил. По прикидкам Рэндольфа, они углубились в болото на три мили, и от дома, если считать по прямой, их отделяло около семи миль. На самом деле прошли намного больше, поворачивая то на север, то на юг, рыская по молчаливой пустоши в поисках следа. За столько времени они уже должны были увидеть какой-то знак. Чарли был прав. Даже в тех частях округа, где охотники истребили все живое, наверняка встретились бы следы или помет.
– Ни хрена ничего.
– Закрой варежку, Чарли.
Но держать рот на замке тот не умел, и каждые несколько минут с его губ срывались слова.
Дерьмо сраное.
Ни хера себе.
Да чтоб…
Рэндольф не обращал внимания на его бормотание, пока не наступила тишина. Минут через десять он оглянулся.
– Где Чарли?
Герберт, шедший в двух футах от него, остановился. Деревья за спиной у них сомкнулись, заслонили свет, и лишь тогда до Рэндольфа дошло, насколько уже поздно.
Почти темно.
– Герберт? – Глаза у того остекленели, губы посинели, с торчащих из-под шапочки волос свисали сосульки. Рэндольф сжал его руку, но Герберт только моргнул. – Господи. Стой здесь. Не уходи. Я серьезно.
Шагов через двадцать он оглянулся, из последних сил сопротивляясь внезапно овладевшему им беспокойству. Чарли пропал. Герберт не в себе. Вдобавок ко всему привычный серый свет уже сгущался, сползал в синюю часть спектра. На часах вряд ли могло быть больше четырех, но, по ощущениям, время приближалось к шести, и свет, казалось, сохранялся только потому, что его удерживал снег.
– Чарли!
Рэндольф поспешил назад, отыскивая на снегу их собственные следы. Все выглядело незнакомым. Деревья раздались, уплотнились и почернели. И отпечатки их ног тоже почернели. Со всех сторон – ни звука, только шорох дыхания и безмолвие снега.
Чарли нашелся через четверть мили. Он стоял под склонившимся дубом, опустив руки и разинув рот. На плечах и шапке высились холмики снега. Как и Герберт, Чарли смотрел в никуда.
– Господи. – Рэндольф остановился рядом с другом, но тот лишь моргнул. Проследив за его взглядом, Рэндольф увидел деревья, тени и падающий снег. Ложа ружья примерзла к деревяшке у ног. Он наклонился и оторвал приклад, ощутив через рукавицы холод стали.
– Ты что делаешь, а? Идем.
Чарли вздрогнул, словно его вырвали из сна, и едва слышно произнес:
– Я умираю.
– Нет, ты не умираешь.
– Мне холодно. Так холодно, что ног не чувствую.
Говорил он медленно, словно едва ворочал языком. «Наверное, у него тоже замерзли губы», – подумал Рэндольф.
– Держись поближе. Не отставай. Я тебя не брошу. – Он сунул ружье в руки другу.
– Я, честно, не могу идти.
– Можешь. Давай.
Он потащил друга за собой. Сначала Чарли спотыкался и едва не падал, но Рэндольф каждый раз подхватывал его. Дальше – легче. Чарли разговаривал с собой, шевеля синими, как лед, губами, но ноги все же переставлял. Дважды он падал, а поднимаясь, тер глаза обледенелой рукавицей. Рэндольф шел рядом, стараясь не сбиться с едва заметного следа. Уже в сумерках они добрались до Герберта, который сидел на снегу, прислонившись спиной к дереву.
– Вставай. Замерзнешь. – Герберт не шевелился. Не дойдя до него, Рэндольф опустился на колени. – Вот дерьмо…
Он плохо представлял, как быть дальше, но знал, что, если не разведет огонь, все они замерзнут. Вообще-то он планировал сделать это за час до заката: достать брезент и развести костер. Теперь же быстро темнело, и Рэндольф понимал, что уже через пять минут не увидит собственных рук, даже если поднесет их к лицу.
Два часа.
Вот сколько он потерял.
– Оставайтесь здесь, оба.
Не теряя времени, Рэндольф принялся собирать валежник, скользкие от снега, но не сгнившие ветки. На болоте росли березы, и он обдирал кору, складывал ее возле рюкзака, накрывал и лез в кусты за сухостоем. Для начала нужно было немного, ровно столько, чтобы развести огонь и оглядеться. Разбросав ногами снег, Рэндольф расчистил небольшой участок. Никто из друзей помощи не предложил. Они даже не смотрели на него. Чарли сидел на снегу, и его била дрожь.
Рэндольф похлопал себя по карману, но нащупать ничего не смог – пальцы распухли и плохо слушались. Он стащил рукавицу зубами и повторил попытку: расстегнул, повозившись, пуговицу, сунул руку внутрь, нащупал спички и огниво, приготовленное из деревянной стружки, керосин и свечную стружку. Шарик размером с персик загорелся быстро, испуская черный дым и разбрасывая голубые искры. Рэндольф поджег кору, добавил прутики и кусочки дерева. Растопка зашипела, затрещала, но потом подсохла и загорелась ровным пламенем. Рэндольф подбросил веточек и прикрыл огонь ладонями. Когда костер окреп, он растянул на деревьях брезент, разгреб снег, повесил одеяла и, создав защищенную от снега площадку, притащил к огню друзей. Те уже едва шевелились и ничего не говорили.
– Сейчас вернусь.
Выбравшись из теплого уголка, Рэндольф окунулся в темноту. На этот раз ему потребовалось больше времени, но он хотел собрать столько валежника, чтобы продержаться всю ночь. Когда вернулся наконец к костру, он так устал, что едва мог поднять руку. Температура продолжала опускаться и дошла, наверное, градусов до десяти.
– Только б не было ветра.
Пока все складывалось в его пользу. Снег падал крупными хлопьями, соскальзывал с брезента и высоких веток с тихим шорохом, напоминающим шепот в темноте.
Придвинувшись к огню и протянув руку, Рэндольф молча наблюдал за друзьями в танцующих отсветах костра. Они выглядели заметно лучше, кожа обрела более естественный цвет, в глазах появилась осмысленность. Первым голос подал Герберт:
– Странно…
– Что? – спросил Рэндольф, но тот только покачал головой.
Чарли вскинул голову и тут же отвел глаза в сторону, стащил рукавицы и протянул руки к огню.
– Чарли?
– Я замерзаю, вот и всё. Больше ничего не знаю.
Где-то здесь была ложь. Рэндольф слышал ее в голосе друга, видел в глубине глаз.
– И всё? Ты больше ничего не чувствуешь?
– Холод, наверное, – сказал Герберт.
– Да, точно, – тут же согласился Чарли. – Холод.
Рэндольф повернулся туда, где, за костром, лежало молчаливое, полностью накрытое тьмой болото. Еще чуть-чуть, совсем немного, и ночь застала бы их там, разделила, развела и запутала. Сто раз он ночевал в лесу. Сто раз, во все времена года. И никогда ничего подобного с ним не случалось. Ни с ним, ни с Гербертом, ни с Чарли.
Неужели мы и в самом деле потеряли два часа?
– Есть кто-нибудь хочет? – спросил Герберт, и Рэндольф увидел, как Чарли вздрогнул. Проголодались все, и Рэндольф знал, что у них в рюкзаках так же пусто, как и в его собственном. Только одеяла да вощеный холст – он сам проверял. Поужинать надеялись олениной – и сейчас уже сидели бы сытые и довольные, с набитыми животами…
– Не надо так шутить, ладно? Я же заглядывал в твой рюкзак.
Герберт сунул руку за пазуху и вытащил брусок вяленого мяса, завернутого в толстую оберточную бумагу.
– Мама дала. Это последнее.
Рот наполнился слюной. В последний раз Рэндольф видел мясо три недели назад.
– Ты точно?..
Герберт взял кусочек оленины, сунул в рот и передал остальное друзьям. Пусть мало, пусть жесткое и соленое, но это было мясо. Ели молча. Мерзлая земля под ними понемногу оттаивала, и от одеял шел пар.
– Завтра, – сказал Чарли. – Завтра кого-нибудь убьем.
Никто не ответил.
За гранью света падал и падал снег.
Утро выдалось холодным, но ясным. Рэндольф проснулся и поднялся раньше других. Подошел к костру. Между деревьями просачивался бледный, жидкий свет. Похоже, они находились на каменистом выступе, окруженном с трех сторон замерзшим болотом. За деревьями ощущалось присутствие пустоты, раскинувшейся во все стороны молчаливого пространства. Снег шел почти до утра и теперь лежал вокруг лагеря глубокой белой целиной.
Подбросив в огонь валежника, Рэндольф накинул на плечи одеяло, прошел между деревьями и остановился у края казавшейся бесконечной равнины с замерзшей водой под снегом. Тут и там на ровной поверхности темнели пятна глубоких омутов. Возле одного из них, в полмили шириной, и разместился лагерь. Дальний край лежал в тени; ближний, тронутый ранним солнцем, отдавал бледной желтизной. Рэндольф поискал взглядом следы, но не обнаружил признаков вторжения на белую гладь. Тишина была такая, что он слышал, как воздух проходит в горле. Дыхание срывалось с губ облачками пара.
Когда Рэндольф разбудил друзей, говорить о вчерашних проблемах никто не стал. Мясо съели, впереди был долгий день, а голод уже давал о себе знать. Молча собрав лагерь, Рэндольф забросал снегом костер и по давней привычке проверил винтовку. Все понимали главное: мясо нужно найти сегодня. В противном случае они либо замерзнут, либо вернутся домой с пустыми руками.
– Готовы?
Герберт кивнул, и они выстроились в том же, что и накануне, порядке: Рэндольф впереди, потом Герберт и замыкающим Чарли. При таком строе тяжелее всего приходится первому. Снег местами доходил до бедер, и прокладывание тропы отнимало немало сил. Но болото было его идеей, его планом, и он вел друзей строго на восток, потому что именно в том направлении лежало сердце пустоши.
– Как насчет Фримантлов? – спросил Чарли.
Рэндольф не ответил. Он уже едва дышал.
– Так что насчет цветных? – повторил Чарли.
– Думаю, мили на две севернее и прилично далеко к западу. – Рэндольф махнул наугад рукой. – Если к полудню ничего не увидим, пройдем дальше на север. Так или иначе к ним мы не приблизимся.
– Обратный путь получается долгий, – сказал Герберт.
– Мясо где-то здесь. Должно быть.
Они остановились на краю той же плоской равнины.
– Ты уверен, что оно замерзло? – спросил Чарли.
– Замерзло.
– Откуда знаешь?
Вопрос был глупый, и Рэндольф задумчиво посмотрел на того, кто его задал. В отцовской куртке он казался даже меньше, чем был в действительности. Кожа натянулась на скулах, губы втянулись, и он опять дрожал от холода. Стоявший рядом с ним Герберт выглядел не лучше – понурый, бледный, испуганный.
– Если кто хочет повернуть назад, сейчас самое время.
Они потупились. До сих пор никто ни словом не упомянул вчерашний день – как они заблудились, потеряли друг друга в сумерках и едва не замерзли, – но оно не прошло без следа, оно осталось с ними: ощущение того, что что-то не так.
– Чарли?
Тот покачал головой.
– Герберт?
– От разговоров мясо на столе не появится.
– Значит, идем охотиться. Как решили, так и сделаем.
Момент нерешительности затянулся еще на секунду-другую, но никто не сказал ни слова. И когда Рэндольф двинулся дальше, мальчишки потянулись за ним – через замерзшую воду в лес. Прошел еще час, и Чарли снова забормотал себе под нос.
Ничего…
Ни хрена ничего…
К середине утра все указывало на то, что Чарли прав. Споткнувшись в очередной раз, Рэндольф понял – это голод.
– Сколько мы прошли? – подал голос Герберт.
– Мили три. Может, четыре.
Определить точнее было невозможно. Каждый шаг давался с трудом. Солнце стояло уже высоко, но температура держалась около десяти. Снег как будто становился лишь глубже, и Рэндольф уже не чувствовал ног.
– Отступи, я пойду первым.
Рэндольф не стал упираться и отступил в сторону, но никто вперед не вышел. Ребята стояли по пояс в снегу. Чарли повис на плече у Герберта.
– Отдохнем минутку.
Чарли кивнул и попытался напиться, но вода во фляге замерзла.
– Вот же черт.
– Еще немного, – сказал Рэндольф. – Что-нибудь найдем. – Чарли согласно кивнул, но окружавшая их тишь ответила молчанием. – На восток. – Рэндольф махнул рукой. – Пройдем еще милю, а потом повернем на север.
Дальше двинулись уже в новом порядке: тропу прокладывал Герберт, Рэндольф шел замыкающим.
Холодало.
И по-прежнему полная неподвижность.
– Чувствуете? – подал голос Чарли. – Тяжесть. Чувствуете?
– Ерунда, – отозвался Рэндольф, хотя тоже это чувствовал. Оно, это ощущение тяжести, нарастало весь день, с самого утра, поначалу едва заметно, потом явственно. Ошибки быть не могло. Все потяжелело. Солнечный свет. Воздух. Они постепенно отклонялись в сторону и шли теперь под стеной деревьев. Еще через полмили ощущение тяжести лишь усилилось. Споткнулся и упал Герберт. Подняться ему помогли Чарли и Рэндольф.
– Я в порядке… в порядке… – повторял он, но кожа на лице уже приобрела синюшный оттенок, а глаза наполовину закрылись из-за замерзших слезинок.
Им всем нужно было поесть и отогреться.
– По-твоему, все нормально?
В горле у него заклокотало. Он выпрямился, наклонил голову, будто пытался рассмотреть что-то. Сначала Рэндольф ничего такого не заметил, но потом вдруг понял. Деревья вокруг, голые и согнутые. Ни одно не отбрасывало тени.
– Какого… – начал было Чарли.
– Ш-ш-ш, помолчи минутку.
– Ты мне рот не затыкай. Господи, что за чертовщина?
Он хотел было добавить что-то еще, но его опередил Рэндольф.
– Иди, Чарли, ладно? Просто иди. Потихоньку, по шажочку. И глаза не закрывай.
Они двинулись дальше, но теперь разницу чувствовал каждый. Воздух дышал злобой. В какой-то момент появилось и тут же пропало ощущение движения; что-то серое, неуловимое, как дымка, мелькнуло в уголке глаза. Рэндольф резко повернул голову вправо, но не увидел ничего, кроме деревьев, снега и слепящего света. Они шли и шли, пробивая тропу, спотыкаясь; пот выступал, замерзал и снова выступал. Чарли уже не умолкал, но говорил тихо, неразборчиво, быстро и без пауз. Как и остальные, он тоже падал, а иногда почти бежал. Рэндольф понимал, что нужно сбавить ход – иначе они просто изнемогут, – но безымянный страх гнал дальше и дальше, заставлял двигаться на пределе.
Герберт пробился через еще один сугроб. Они скатились в овражек, выбрались на другую сторону. И все это время оно не оставляло их, торопило, подталкивало – осознание присутствия чего-то. И Рэндольф был не единственным, кто чувствовал это. Герберт то и дело бросал взгляды по сторонам. И Чарли крутил головой. С каждой минутой они шли как будто быстрее, хрипя и задыхаясь.
Вырвавшись из-под деревьев, обнаружили вдалеке открытую, продуваемую ветром поляну, своего рода островок. Снег на льду лежал тонким слоем, и ребята, не сговариваясь, устремились к нему, скользя и падая, поддерживая друг друга и помогая подняться. Они чувствовали одно и то же – Рэндольф знал это: там что-то есть, и оно противится им.
– Туда, – сказал Герберт. – К деревьям.
Он указал на ближайшее укрытие, и с ним никто не стал спорить. На льду они были открыты со всех сторон, прежде всего ветру, налетавшему колючими слепящими порывами. В роще Рэндольф снова вышел вперед и повел друзей в сторону от озера – через кусты и мелколесье. Подальше от давящей тяжести; по пути меньшего сопротивления. Брешь здесь. Низина там. Он скатился под громадную ель, но тут же выбрался из-под нее с другой стороны.
Оно было там.
Оно приближалось.
Паника гвоздем воткнулась в сердце. Давящая тяжесть… боль… Он упал на дерево, ободрав кожу о жесткую кору. Никто не сбавил шаг. Никто не нарушил строй. Короткой цепочкой они бежали через лес и снег, пока Рэндольф не остановился вдруг как вкопанный.
Следы.
Путаница следов.
Рэндольф сам принял решение и повернул влево, туда, куда вели следы. Их оставил человек, а это обещало помощь и, может быть, еду. Стоило свернуть на тропинку, и давление моментально ослабло. Идти стало легче. Рэндольф вел друзей между деревьями и через замерзшие ручьи. И застыл как вкопанный на крохотной полянке. Сердце подскочило к горлу. Подступила тошнота. Герберт и Чарли остановились, отдуваясь, рядом. Их глазам открылась невероятная картина.
Потухший костер.
Брошенная стоянка.
– Это не… – Чарли не договорил, но и без него все было ясно.
Они вернулись к собственному лагерю.
К своему костру.
– Но как?
Они прошли несколько миль, держа курс на восток. Лагерь должен был остаться позади. Далеко позади.
– Невозможно. – Чарли трясло от холода, а посеревшая кожа сделалась полупрозрачной, как повисший в волосах замерзший пот. – Рэндольф… – Ему хотелось услышать объяснение, но объяснения у Рэндольфа не было. – Как такое могло случиться?
Он поднял глаза, растерянные и испуганные, и Чарли покачал головой и тут же согнулся – его вырвало жидкой желчью.
– Нет. Это невозможно.
И тем не менее невозможное случилось.
Прямая завернулась в круг.
Остаток дня провели у костра, такого огромного, что пламя ревело. Говорили мало, слова получались неуклюжие и, едва родившись, быстро умирали. Вступить в схватку с ужасом собственных страхов не решился никто. Чарли по-прежнему мучился животом, хотя там ничего уже не осталось. Герберт неотрывно смотрел на огонь. Его губы беззвучно шевелились, произнося то имя матери, то слова молитвы или прощания. Рэндольф представлял летний день: прогулка, солнце на лице. Поначалу совершенно безобидная картина.
Три друга.
Надежда.
Откуда же этот страх?
Рэндольф рискнул бросить взгляд на друзей по ту сторону костра. Чарли лежал под одеялом, съежившись, на боку, подтянув к груди колени. Его трясло, и напряжение сковало, похоже, все его мышцы. Герберт смотрел на огонь, и губы его шевелились, а взгляд то и дело срывался то в одну, то в другую сторону. Ужас сломил всех.
Настоящий разговор возник, только когда они заспорили. Герберт и Чарли хотели уйти прямо сейчас: вернуться на свой след и пойти по нему домой. «А что там? – спрашивал Рэндольф. – Голодная семья? Медленная смерть?» – «Все равно это лучше, чем умереть здесь, – говорили они. – Лучше, чем замерзнуть насмерть».
О чем никто не говорил, так это о том, что никто не мог игнорировать. Они уже замерзли до полусмерти и обессилели. Один этот аргумент склонял чашу весов в пользу Рэндольфа. Согреться, а потом решить. Было четыре часа, когда Герберт подал наконец голос.
– Извини, Рэндольф, но я здесь не останусь.
Чарли с усилием сел и кивнул.
– Аминь, брат. Давай убираться отсюда ко всем чертям. Пойдем с нами, Рэндольф. – Тот промолчал. – Пожалуйста. Не заставляй меня просить.
Рэндольф представил мать в холодной кухне. Она стояла у окна, смотрела на замерзший двор. За спиной – пустой буфет.
– Идите. Я не могу.
– Не строй из себя героя. – Герберт наклонился ближе. – Ты же чувствуешь это не хуже нас. Оно и сейчас там.
– Я не знаю, что чувствую.
– Не ври. – Чарли покачал головой. – Ты тоже побледнел и перепугался до усрачки, как и мы. Что бы там ни было, оно существует.
– Что за оно? Я никакого оно не вижу.
– Ладно, давай, обманывай себя. Пусть так. Но здесь умирают люди. Умирают, исчезают или сходят с ума. И это не просто чья-то болтовня, это на самом деле. Вспомни хотя бы Дредов или парней Миллеров.
– До темноты не успеете.
– Уже темнеет. – Герберт поднялся и набросил на плечи одеяло. – Все лучше, чем сидеть здесь. Чарли, ты идешь?
– Иду.
Глядя вслед друзьям, Рэндольф чувствовал себя так, словно вся его смелость вытянулась из груди бечевой и волочится, замерзшая, за ними по снегу. Каждый их шаг вытягивал из него тепло и сердце, так что к тому моменту, когда они добрались до первого поворота тропинки, ему уже хотелось бежать следом, звать. Но он остался на месте. В том месте, у лесной ниссы, где тропинка поворачивала на юг, пара на секунду остановилась. Чарли поднял руку; рукавичка, вся в заледенелых соплях, блеснула отраженным солнечным лучом, и в этот момент общности взгляд Чарли сказал: Береги себя, брат, мы тебя любим. В этот момент – более, чем когда-либо, – Рэндольф хотел встать, догнать их и как-то убедить, заставить остаться. Теперь он остро ощущал риск разделения. Все вместе – адреналин и ужас – билось внутри, требуя крикнуть вдаль: «Да, я чувствую это! Да, оно настоящее!» Потому что та сила, чем бы она ни была, которая преследовала их, уже собиралась невидимо в сумраке под деревьями. Она наблюдала и разрывалась. Следовать за теми двумя или остаться одиночкой? Ненависть и нерешительность разлились в воздухе, словно едва слышная похоронная песнь. Но эта песнь, глубокая и острая, проникала внутрь, так что Рэндольф накрыл ладонями руки и открыл рот, словно хотел ослабить давление. Скованный ужасом, он умирал. Он даже попытался крикнуть, но рука в обледенелой рукавичке упала, и друзья повернули наконец на юг. Жуткая пустота заполнила его, на мгновение вытеснив все. Но давление нарастало с каждой секундой, пронзая голову острой болью.
Он свернулся в комочек и заткнул пальцами уши. Костер постреливал углями; один уголек, улетев в снег, зашипел. Рэндольф лежал едва ли не в самом костре, но замерзал и не мог согреться. Он вроде бы тоже плакал или скулил, но точно и сам сказать не мог. Давление усилилось, вой резал мозг, как ветер, проносящийся через горный перевал. Рэндольф хотел умереть. И мог умереть – от ужаса и боли. Он засучил ногами, задергался на снегу…
И все как будто смыло.
Вой прекратился. В голове прояснилось.
Рэндольф поднялся на колени. Его трясло, как побитого ребенка. Дыхание стеклом резало горло. Сил не осталось. Беспомощно опустив голову, он тупо смотрел на опустевший лес.
Ни Чарли, ни Герберта.
Ничего.
Рэндольф моргнул, и сквозь тупую боль пробилась непрошенная мысль: то, что таилось за деревьями, сделало выбор и последовало за его друзьями.
Что оно идет, Герберт почувствовал одновременно с Чарли. Он споткнулся, оглянулся и увидел на лице друга дикий страх.