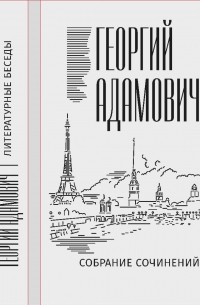Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
Литературные заметки [ «Два человека» Дюамеля. – Статьи М. Цветаевой. – Русские консерваторы]
Удивительная повесть Дюамеля «Два человека» кажется написанной человеком, живущим «под северным небом», скандинавом или русским. Такие книги пишутся в долгие, темные вечера, когда некуда выйти, когда знаешь, что никто не придет, весь мир как бы перестает существовать.
Дюамель – замечательный писатель. Дарование его не очень крупное, но безупречно чистое, первоклассного качества. Отсутствие настоящей творческой силы в его новой повести очень заметно. Ее рисунок сбивчив, краски бледны до крайности. Но правдивость рассказа, все подробности этого рассказа обезоруживают и подкупают.
«Два человека» – это новая повесть об Иване Ивановиче и Иване Никифоровиче, история дружбы и ссоры двух людей, заурядных и слабых. Один из них много работает и преуспевает по службе. Другой не способен и на это: он только мечтает. Их дружба с первого дня беспокойна и порывиста. Они почти влюблены друг в друга. Эдуард приобщается в разговорах с Салавеном к каким-то неведомым ему областям. Бестолковому Салавену кажется, что он нашел, наконец, опору в жизни. Они ежедневно встречаются, обедают в грошовых ресторанах, бродят по Парижу, беседуют. И, поссорившись из-за пустяков, они расходятся навсегда.
Фабула повести чрезвычайно проста, развитие ее неторопливо и однообразно. Старомодность повествования бьет в глаза. Но не знаю, есть ли в литературе последних десятилетий что-либо более острое, прозорливое и безошибочное в воспроизведении всей жизненной обыденщины, – внешней и внутренней. Ни Чехову, ни Мопассану эти области не были доступны. Мир, созданный Дюамелем, кажется освещенным рентгеновскими лучами.
Если бы это качество было основным свойством искусства, Дюамеля надо было бы признать величайшим художником.
Марина Цветаева написала две статьи, обе безмерно-восторженные. Одну о поэме Б. Пастернака, другую о кн. С. Волконском.
Князь Волконский, как все знают, человек очень культурный, даровитый и умный, писатель сдержанный и спокойный. Не думаю, чтобы он мог без усмешки прочесть статью, в которой его ежеминутно сравнивают с Гете, с Лукрецием и Бог весть с кем еще.
Не думаю, чтобы в нем вызвали добрые чувства этот кликушеский стиль, бесчисленные восклицательные знаки, многоточия, вскрики, скобки, вся эта претенциозная и совершенно пустая болтовня.
Марина Цветаева, как бы в свое оправдание, пишет в начале статьи, от лица каких-то неведомых «нас»:
«Нас, кажется, уже ничем не потрясешь, – после великой фантасмагории Революции, с ее первыми-последними, последними-первыми, после четырехлетнего сна наяву, после черных кремлевских куполов и красных над Кремлем знамен, после саженного: “Господи, отелись!” на стенах Страстного монастыря, после гробов, выдаваемых по 33-му талону карточки широкого потребления, после лавровых венков покойного композитора Ск-на, продаваемых семьей на рынке по фунтам…»
Это верно. Но после этих действительно потрясающих явлений менее всего способны взволновать или просто дойти до человека такие мелко-неврастенические записи. Есть какая-то фальшь и наивность в столь распространенном теперь стремлении отразить стилистическими судорогами катастрофы последних лет.
Надо очень любить стихи Цветаевой, чтобы простить ей ее прозу. Не могу не сознаться: я очень люблю стихи ее. Добрая половина цветаевских стихов никуда не годится, это совсем плохие вещи. У Цветаевой нет никакой выдержки: она пишет очень много, ничего не вынашивает, ничего не обдумывает, ничем не брезгует. Но все-таки ей – одной из немногих! – дан «песен дивный дар» и редкий, соловьиный голос. Некоторые ее строчки, а иногда и целые стихотворения, совершенно неотразимы и полны глубокой прелести. Не хватает ей простоты. Пушкин писал жене: «Если будешь держать себя московской барышней, ей-ей разведусь», – цитирую по памяти, едва ли точно. В Цветаевой очень много московской барышни. Не сомневаюсь, что это показалось бы ей упреком не существенным, – эстетическим «возраженьицем». Но мне кажется, что это гибельный порок.
В одном из недавно вышедших французских романов указывается, что в Англии, в кругах утонченно-культурной молодежи распространена газета «Action Française». Читать ее считается признаком хорошего вкуса.
В этом нет ничего удивительного. Не надо быть роялистом, чтобы признать блестящие литературные достоинства «Action Française». Просмотреть эту газету всегда интересно и увлекательно. Ее редакторов можно упрекать в чем угодно, только не в глупости или бездарности.
Но представьте себе эстетов уайльдовского типа, читающих «Земщину», или «Старое время», или любую из теперешних русских крайне-правых газет!
Есть роковая черта в русском монархизме: ему почти всегда сопутствует ужасающая скудость кругозора, общая безграмотность, вражда к искусству, вражда к культуре. Русский консерватор, если только его развитие достигло хотя бы среднеевропейского уровня, не в состоянии читать свои газеты: руки опускаются. Это или развязно-хлесткий вздор, или беспомощный детский лепет. И каким языком все это написано! В одной из газет, отстаивающих исконно-русское, недавно фельетон начинался так:
«На улицах простиралась глубокая тишина».
Господа! выучитесь прежде всего говорить по-русски! Есть среди «правых» публицистов и писателей талантливые люди. Генерал Краснов, например, кажется мне чрезвычайно даровитым романистом. Его роман «От двуглавого орла» – в особенности первая его часть – заслуживает пристального внимания. Но когда Краснов рассуждает о Блоке или о судьбах мира, хочется вспомнить строчку Бодлера: «La Bêtise au front de taureau».
И так всегда и везде у крайне-правых.
Единичные явления – Катков или К. Леонтьев – ничего не меняют. Они только подчеркивают убожество тех, кто их окружает. Подчеркивают они и то, что монархическая идея и «охранительный» строй ума и духа совершенно не требуют ни игнорирования культуры, ни общей глупости.
Не в том ли причина всего этого, что русский монархизм слишком долго был торжествующим? В счастии и в достатке люди тупеют. Конст. Леонтьев страстно тревожился о будущем, предчувствовал какие-то беды, ждал крушения всего, что ему было дорого, – это и обостряло его несравненный ум. Но остальные были спокойны, и всякая пытливость духа была им противна. Один молодой офицер сказал мне однажды, – очень давно, – увидя на столе том Ибсена: «Кажется, у вас его очень любят». Конечно, этот юноша не сумел бы объяснить, кто это «вы», но он хотел отгородиться. Жизнь казалась ему простой и понятной. Зачем бы он стал читать Ибсена, который только смутил бы его.
Русские консерваторы пока еще верны себе. Они еще «ничему не выучились и ничего не забыли». Но едва ли это может так продолжаться.