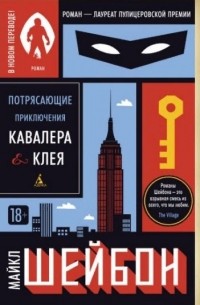Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
4
Сэмми было тринадцать, когда вернулся домой его отец, Могучая Молекула. Той весной закрылась водевильная сеть Вертца – пала жертвой Голливуда, Депрессии, ошибок управляющих, ненастной погоды, убогих талантов, филистерства и ряда других бедствий и фурий, которых в заклинательной ярости отец Сэмми перечислял поименно тем летом во время долгих совместных прогулок. Рано или поздно вину за свою внезапную безработицу он без особых обоснований или логики возлагал на банкиров, профсоюзы, боссов, Кларка Гейбла, католиков, протестантов, антрепренеров, номера с близняшками, номера с пуделем, номера с мартышками, ирландских теноров, англоканадцев, франкоканадцев и лично мистера Хьюго Вертца.
– Да катись они в преисподнюю, – так он неизменно завершал свою филиппику, и его рука в сумерках бруклинского июля сигарой описывала широкую светящуюся дугу. – В один день Молекула говорит им всем: пошли вы все нахуй.
Вольное и беспечное употребление непотребного слова, как и сигары, лирическая ярость, любовь к взрывным жестам, дурной синтаксис и привычка называть себя в третьем лице восхищали Сэмми: до того лета 1935 года его воспоминания или ясные впечатления об отце были немногочисленны. И любое из вышеперечисленных свойств (а также ряд других, которыми отец тоже располагал), по мнению Сэмми, дало бы матери повод лет на десять изгнать Молекулу из дома. Лишь с величайшей неохотой и при непосредственном вмешательстве рабби Бейтца она согласилась опять впустить мужа в дом. И однако, с первой же минуты Сэмми понимал, что исключительно безвыходные обстоятельства могли вынудить Гения Физкультуры возвратиться к жене и ребенку. Последние десять лет Молекула мотался, «свободный, как птичка в кустиках, черт дери», по загадочным северным городишкам на маршруте Вертца, от Огасты, штат Мэн, до Ванкувера, Британская Колумбия. Почти патологическая непоседливость и тоскливое томление, что наполняло обезьянью физиономию Молекулы, миниатюрную и умную, когда он рассказывал о гастрольных разъездах, вполне убедили его сына, что отец снова отправится в путь при первой же возможности.
Профессор Альфонс фон Клей, Могучая Молекула (урожденный Альтер Клейман из Дракопа, пригородной деревушки к востоку от Минска), бросил жену вскоре после рождения сына, хотя с тех пор еженедельно присылал по двадцать пять долларов переводом. Отца Сэмми узнавал по горьким повествованиям Этель Клейман и редким обманчивым фотографиям, которые Молекула иногда прикладывал – вырезал из раздела «Досуг» газеты «Трибюн» Хелены, или «Газетт» Кеноши, или «Бюллетеня» Калгари и, сдобрив сигарным пеплом, запихивал в конверт с оттиском бокала и названием некоего плюс-минус клоповника. Все это копилось у Сэмми в синем бархатном мешке для обуви, который он, ложась спать, совал под подушку. Ему часто снились яркие сны о мускулистом человечке с гондольерскими усами – человечек умел поднять над головой банковский сейф и побеждал тяжеловоза в перетягивании каната. Рукоплескания и почести, описываемые в вырезках, а также имена европейских и ближневосточных монархов, каковые всем этим награждали Могучую Молекулу, с годами менялись, но по сути липовые факты его биографии оставались неизменными: десять одиноких лет за штудированием древнегреческих текстов в пыльных библиотеках Старого Света; долгие часы каждодневных болезненных тренировок с пяти лет, диета, состоящая исключительно из свежих бобовых, морепродуктов и фруктов – всё в сыром виде; целая жизнь, посвященная тщательному воспитанию чистых, здоровых, ягнячьих мыслей и полному воздержанию от пагубного и аморального поведения.
Год за годом Сэмми по капле выжимал из матери скупые, бесценные сведения об отце. Сэмми знал, что Молекула – свой сценический псевдоним получивший оттого, что в золотых баскинах из ламе до середины икры ростом был чуть меньше пяти футов и двух дюймов, – в 1911 году, при царизме, сидел в одной камере с политическим, цирковым силачом из Одессы по имени Товарняк Бельц. Сэмми знал, что анархо-синдикалист Бельц, а вовсе не древние мудрецы из Греции, тренировал тело отца и научил его воздерживаться от алкоголя, мяса и азартных игр – на манду и сигары ограничения не распространялись. И Сэмми знал, что в Альтера Клеймана, который только что прибыл в страну, торговал льдом, а на досуге грузчиком таскал пианино, мать влюбилась в «Салуне Курцбурга» в Нижнем Ист-Сайде в 1919 году.
Миссис Клейман вышла замуж под тридцать. Она была четырьмя дюймами ниже миниатюрного мужа, мускулистая, с угрюмым подбородком и бледно-серыми глазами цвета дождевой воды в миске, оставленной на подоконнике. Черные волосы она стягивала безжалостным узлом. Сэмми не умел вообразить свою мать, какой та, вероятно, была летом 1919-го, – стареющая девица, опрокинутая и унесенная внезапным порывом эротических ветров, завороженная жилистой рябью рук лихого гомункула, что, подмигивая, носил стофунтовые колоды льда в сумрак салуна ее кузена Льва Курцбурга на Ладлоу-стрит. И не то чтобы Этель была бесчувственна – напротив, по-своему страстна, подвержена приступам слезливой ностальгии, легко гневалась, а от дурных вестей, неудач или счетов врача погружалась в глубокие черные расселины ледяного отчаяния.
– Возьми меня с собой, – сказал Сэмми отцу как-то вечером после ужина, когда они шагали по Питкин-авеню в Нью-Лотс, или Кэнарси, или куда уж там манили Молекулу бродяжнические склонности.
Молекула, замечал Сэмми, был как лошадь – почти никогда не присаживался. Зондировал любое помещение, куда заходил, – шагал взад и вперед, потом вправо и влево, заглядывал за шторы, глазами или носком ботинка ощупывал углы, проверял подушки дивана или кресел, мерно на них попрыгав, а затем вскакивал опять. Если ему почему-то приходилось стоять на одном месте, он раскачивался, точно ему приспичило помочиться, и звенел монетами в кармане. Он никогда не спал больше четырех часов за ночь и даже тогда, по свидетельству Этель, не успокаивался – метался, задыхался, вскрикивал во сне. И нигде не задерживался дольше часа-другого. Его бесило и унижало искать работу, шляться зигзагами по Нижнему Манхэттену и Таймс-Сквер, ошиваться в конторах агентов и антрепренеров, но такие занятия неплохо ему подходили. Оставаясь в Бруклине и торча в квартире, он всех доводил до умопомешательства, расхаживая, раскачиваясь и ежечасно бегая в лавку за сигарами, ручками, ипподромным формуляром, половиной жареной курицы – за чем угодно. За полдень отправляясь блуждать по городу, отец и сын забредали далеко и присаживались редко. Исследовали восточные районы до самого Кью-Гарденс и Восточного Нью-Йорка. Паромом с вокзала Буш плыли на Статен-Айленд, а там от причала Сент-Джорджа шли на Тоут-Хилл и возвращались далеко за полночь. Когда – редко – запрыгивали на трамвай или поезд, в вагоне оба стояли, даже если он пустовал; на статен-айлендском пароме Молекула персонажем Конрада шатался по палубам и тревожно взирал на горизонт. Время от времени на прогулке они могли заглянуть в сигарную лавку или аптеку, где Молекула заказывал себе сельдерейный тоник, а мальчику стакан молока и, презрев хромовый табурет с сиденьем из кожзама, осушал свой «Сельде-Рай» стоя. А однажды на Флэтбуш-авеню они забрели в кинотеатр, где шла «Жизнь бенгальского улана», но остались только на кинохронику, а потом снова отбыли на улицу. Молекула не любил ходить только на Кони-Айленд, где в зловещих, по большей части цирковых антрепризах он давным-давно пережил некие неустановленные муки, и на Манхэттен. Манхэттена, говорил он, ему и днем хватает, и более того: присутствие на острове театра «Пэлэс», вершины и священного храма Водевиля, самолюбивый и злопамятный Молекула расценивал как упрек, ибо ступить на эти легендарные подмостки ему никогда не приходилось и никогда не придется.
– Не оставляй меня с ней. В мои годы мальчику нехорошо вот так жить с женщиной.
Молекула остановился и развернулся к сыну. Одет Молекула был, по обыкновению, в один из трех своих черных костюмов, отглаженных и лоснящихся на локтях. Как и два других, костюм был пошит по фигуре и все же охватывал тело с трудом. Спина и плечи у Молекулы были широки, как радиаторная решетка грузовика, руки толсты, как бедра среднего мужчины, а бедра, если он их сдвигал, объемом соперничали с грудной клеткой. Талия была странно хрупка, точно горлышко песочных часов. Стригся он очень коротко и носил анахроничные вислые усы с подкрученными концами. На рекламных фотографиях, где он зачастую позировал с голым торсом или в обтягивающем трико, Молекула казался гладким, словно отполированная чушка, но в уличной одежде был комично неповоротлив; из манжет и воротника торчали темные волосы, и он смахивал всего лишь на человекообразное в штанах, персонажа сатирического комикс-стрипа о человеческом тщеславии.
– Слушай меня, Сэм. – Просьба сына, похоже, захватила Молекулу врасплох, будто совпала с его собственными раздумьями или же – эта мысль Сэмми тоже посещала – Молекула как раз собирался линять из города. – Мне одно счастье, что брать тебя с собой, – продолжал он возмутительно туманно, поскольку безграмотность позволяла. Тяжелой ладонью отвел волосы у Сэмми со лба и пригладил. – Но если вдумать, господи, это, бля, какой-никакой бред.
Сэмми заспорил было, но отец воздел руку. Он еще не закончил, и в равновесии его речи Сэмми разглядел или вообразил слабую искру надежды. Он знал, что для своей просьбы выбрал особо благоприятный вечер. У родителей вышла свара – возникли претензии к ужину (буквально). Этель облила презрением режим Молекулярного питания, заявила, что сырые овощи не приносят пользы, кою приписывает им супруг, – хуже того, этот последний при любой возможности тайком выбирается из дому и за углом набивает брюхо стейками, телячьими отбивными и картошкой фри. В тот день отец, полдня проискав работу, вернулся на Сэкман-стрит (это было до переезда во Флэтбуш) с целым пакетом цукини. Вывалил их на кухонный стол, подмигнув и ухмыльнувшись, точно краденый товар принес. Сэмми в жизни не видал таких овощей. Цукини были прохладные и гладкие и терлись друг о друга, резиново повизгивая. Видно было, где их срезали. Рассеченные стебли, шестиконечные и деревянные, как будто наполнили кухню зелеными зарослями и слабым благоуханием почвы. Молекула разломил один кабачок пополам и поднес яркую белесую мякоть к носу Сэмми. Потом закинул другую половину в рот и захрустел, улыбаясь и подмигивая сыну.
– Ногам полезно, – пояснил Молекула и ушел из кухни – душем смыть неудачи дня.
Мать Сэмми варила цукини до серой волокнистой каши.
Когда Молекула увидел, что она натворила, прозвучали резкие и злые слова. Потом Молекула схватил Сэмми – так люди хватаются за шляпу – и выволок его из дому, в вечернюю жару. Они гуляли с шести. Солнце давно село, и небо на западе занавесилось мглистым муаром – лиловым, и оранжевым, и бледно-серо-голубым. Они шли по авеню Z, в опасной близости от запретных пределов стародавних неприятностей на Кони-Айленде.
– Наверное, тебе не понять, как я живу, – сказал Молекула. – Ты думаешь, цирк с картинок. Все клоуны, и карлик, и толстая дама приятно сидят у костра, едят гуляш и поют с аккордеоном.
– Я так не думаю, – возразил Сэмми, хотя описание у Молекулы вышло ошеломительно точное.
– Если мне брать с собой тебя – и я говорю сейчас только «если», – надо очень работать, – продолжал Молекула. – Тебя примут, только если уметь работу.
– Я умею, – сказал Сэмми и предъявил бицепс. – Вот, посмотри.
– М-да, – сказал Молекула. Очень осторожно ощупал мощные руки сына – почти так же Сэмми ощупывал днем кабачок. – У тебя руки неплохо. А ноги не очень хорошо.
– Елки, пап, у меня был полиомиелит, чего ты хочешь?
– Я знаю, что полиомиелит. – Молекула опять остановился. Нахмурился, и в его лице Сэмми прочел злость, и сожаление, и что-то еще – едва ли не надежду. Молекула раздавил сигарный окурок, и потянулся, и слегка встряхнулся, точно пытаясь скинуть удушающие сети, которые набросили ему на спину жена и сын. – Еб твою мать, ну и денек. Бля.
– Чего? – сказал Сэмми. – Эй, ты куда?
– Мне надо думать, – ответил его отец. – Мне надо думать, что ты просишь.
– Ладно, – сказал Сэмми.
Отец снова задвигал короткими толстыми ногами, свернул направо, на Нострэнд-авеню, – Сэмми с трудом поспевал – и шагал, пока не добрался до странного здания, по виду арабского или, может, задумывалось как марокканское. Стояло оно посреди квартала, между палаткой слесаря и сорнячным двором, заваленным пустыми надгробиями. По углам крыши в бруклинское небо тянулись две худосочные башенки, увенчанные остроконечными плюхами лупящейся штукатурки. Окон не было, широченная стена с утомительной скрупулезностью облицована крошечными квадратными плитками, синими, как мушиное брюхо, и мыльно-серыми (некогда белыми). Многие плитки потерялись, или скололись, или были выковыряны, или отвалились. Дверь помещалась в широкой, синей плиткой выложенной арке. Невзирая на сиротливый вид и дешевую кони-айлендскую атмосферу Таинственного Востока, здание завораживало. Похоже на город с куполами и минаретами, бледный и иллюзорный, еле различимый под буквами на пачке «Честерфилда». Возле арочной двери белыми плитками с синей кромкой значилось: «БОЛЬШОЙ БРАЙТОНСКИЙ ХАММАМ».
– Что такое «хам-мам»? – спросил Сэмми, перешагивая порог. В нос тотчас ударили едкость сосны, запах перегретого утюга, влажного белья и что-то еще – человеческий запах, соленый и тухлый.
– Швиц, – отвечал Молекула. – Баня, знаешь?
Сэмми кивнул.
– Когда пора подумать, – сказал Молекула, – я хочу швиц.
– А.
– Ненавижу думать.
– Да, – сказал Сэмми. – Я тоже.
Они оставили одежду в раздевалке, в высоком черном железном шкафу, который заскрипел и захлопнулся с громким лязгом пыточного инструмента. А затем пошлепали по длинному кафельному коридору в центральную парную брайтонского хаммама. Шаги отдавались эхом, как в громадном зале. Жара стояла убийственная, и Сэмми никак не мог вдохнуть вволю. Хотелось бежать назад, в относительную прохладу бруклинского вечера, но он тащился дальше, нашаривая дорогу средь вздымающихся парны́х одеяний, положив руку на голую отцовскую спину. Они забрались на низкую кафельную скамью, развалились на ней, и каждая плитка выжигала квадратик в коже Сэмми. Толком ничего не разглядеть, но временами проказливое течение воздуха или причуды незримой хрипящей механики, нагонявшей пар, раздвигали завесу, и Сэмми видел, что они и впрямь в большом зале, под крестовыми сводами, и все отделано бело-синим кафелем, который местами потрескался, запотел и от старости пожелтел. Других мужчин или мальчиков в зале не видать, но мало ли, – может, они тут где-нибудь есть; Сэмми неотчетливо боялся, что из этой мути внезапно проступит незнакомое лицо или голая конечность.
Очень долго они молчали, затем Сэмми заметил, во-первых, что тело его просто-напросто истекает по́том в количествах, каких прежде за ним не наблюдалось, а во-вторых, что он воображает жизнь в водевиле: как он несет кипу блескучих костюмов по длинному темному коридору Королевского театра в городе Расин, штат Висконсин, мимо репетиционной, где звякает пианино, и за дверь черного хода, к фургону, и на дворе суббота, и густая июльская ночь Среднего Запада полна майских жуков, и бензина, и роз, и костюмы несвежи, но их оживляют пот и грим хористок, только что их сбросивших, и Сэмми видит, и вдыхает, и слышит эту картину со всей яркостью сна, хотя, судя по всему, вовсе не спит.
Затем отец сказал:
– Я знаю, что полиомиелит.
Сэмми удивился: голос у отца был ужасно злой, будто Молекуле стыдно, что он должен сидеть и отдыхать, а вместо этого накручивает себя.
– Я видел. Я тебя находил на крыльце. Ты обрубился.
– Ты видел? Как я заболел?
– Я видел.
– Я не помню.
– Ты был маленький.
– Мне было четыре.
– Ну, четыре. Ты не помнишь.
– Я бы запомнил.
– Я видел. Отнес в комнату, где мы жили.
– В Браунсвилле это было. – Скрыть сомнение Сэмми не удалось.
– Я видел, черт дери.
Словно под порывом злости, разделявшая их парна́я завеса вдруг раздвинулась, и Сэмми – собственно говоря, впервые – увидел великолепное бурое зрелище голого отца. Никакие студийные фотографии с тщательным позированием его к такому не подготовили. Отец весь блестел, он был громаден, он был дикарски мохнат. Мускулы на руках и плечах – словно выбоины и колеи на просторах утоптанного бурого грунта. Поверхность ляжек ветвилась и вихрилась, точно корневая система древнего дерева, а там, где кожу не покрывал темный мех, она шла странной рябью, раскидистыми паутинами какой-то ткани прямо под кожей. Пенис лежал в тени бедер толстой витой веревкой. Сэмми вытаращился, затем сообразил, что таращится. Отвернулся, и сердце екнуло. В зале с ними был еще какой-то человек. Сидел у дальней стены, прикрыв колени желтым полотенцем. Темноволосый смуглый юноша с одной цельной длинной бровью и совершенно гладкой грудью. На миг его глаза поймали взгляд Сэмми, скользнули прочь, вернулись. Между юношей и Сэмми точно открылся тоннель чистого воздуха. Сэмми снова посмотрел на отца; в животе поднялось кислое смущение, смятение и возбуждение. Отчего-то отцовское косматое великолепие было непереносимо. Так что Сэмми уставился вниз, на полотенце, обернутое вокруг его собственных ножек-палочек.
– Ты был такой тяжелый по весу, – сказал отец. – Я думал, ты стал мертвый. Но ты был горячий рукам. Пришел врач, мы положили на тебя лед, а ты проснулся и больше не мог ходить. А потом ты вернулся из больницы, и я стал тебя водить, и водил, носил тебя, и таскал, и заставлял. Заставлял ходить, у тебя колени в ссадинах и синяках. Ты плакал. Сначала держал за меня, потом за костыли, а потом не за костыли. А сам.
– Елки, – сказал Сэмми. – В смысле – ха! Мама никогда ничего такого не рассказывала.
– Удивительное дело.
– Я честно не помню.
– Господь милосерден, – сухо отвечал Молекула; в Бога он не верил, и сын прекрасно об этом знал. – Ты ненавидел. Ты все равно что ненавидел меня.
– Но мама соврала.
– Я поражен.
– Она мне всегда говорила, что ты ушел, когда я был совсем мелкий.
– Я и ушел. Но я вернулся. Я тут, когда ты заболеваешь. Потом остался и учил тебя, чтобы ты ходил.
– А потом опять уехал.
Это замечание Молекула пропустил мимо ушей.
– Поэтому я столько вожу сейчас, – сказал он. – Чтобы твои ноги окрепли.
Эта вторая возможная причина их прогулок – после отцовской природной неугомонности – тоже приходила Сэмми в голову. Ему было лестно, он верил в отца и в силу долгих прогулок.
– Так ты меня возьмешь? – спросил Сэмми. – Когда уедешь?
Но Молекула колебался:
– А как твоя мать?
– Ты издеваешься? Ей бы только от меня избавиться. Ее от меня тошнит не меньше, чем от тебя.
На это Молекула улыбнулся. По всем внешним признакам возвращение мужа в дом Этель почитала докукой, а то и хуже – предательством принципов. Она придиралась к привычкам Молекулы, к его одежде, рациону, к тому, что он читал, к тому, как он говорил. Если он пытался вырваться из пут корявого и непристойного английского и заговаривал с женой на идише, которым прекрасно владели оба, она пропускала его речи мимо ушей, будто не слышала, или рявкала: «Ты в Америке. Говори по-американски». И в присутствии Молекулы, и у него за спиной она бранила его за грубость, за нудные истории о водевильной карьере и о детстве в черте оседлости. Корила его за то, что оглушительно храпит, оглушительно смеется, проще говоря, оглушительно живет – за пределами терпимости цивилизованного существа. Обращала к нему лишь слова порицаний и обличений. И однако, накануне ночью, как и во все ночи с возвращения Молекулы, она – от девчачьей стыдливости дрожащим голосом – позвала его в свою постель и дозволила собой насладиться. В свои сорок пять она была почти как в тридцать: тощая, жилистая и гладкая, кожа цвета миндальной кожуры и аккуратные мягкие заросли чернильно-черных волос между ног – Молекула любил вцепиться в эти заросли и тянуть, пока она не закричит. Аппетит у нее был, она десять лет прожила без мужчины и после нежданного возвращения Молекулы допустила его даже туда и так, куда и как раньше предпочитала не допускать. А после она лежала рядом с ним в темноте крохотной комнатушки, которую отделила себе от кухни бисерной занавеской, и гладила его широченную волосатую грудь, и на ухо тихим шепотом повторяла ему прежние ласковые слова, уверяла, что принадлежит ему. Ночами, в темноте, Этель от него не тошнило. Этой мысли Молекула сейчас и улыбался.
– Не будь так уверен, – сказал он.
– Пап, мне все равно, я хочу уехать, – сказал Сэмми. – Черт, я просто хочу сбежать отсюда.
– Хорошо, – сказал его отец. – Обещаю брать с собой, когда поеду.
Наутро, когда Сэмми проснулся, отец уже исчез. Получил ангажемент в старой сети Карлоса на юго-западе, говорилось в его записке, и там до конца карьеры разъезжал, играл в душных пыльных театрах, от Кингмена и на юг до самого Монтеррея. Сэмми по-прежнему получал открытки и вырезки, но Могучая Молекула и на тысячу миль не приближался к Нью-Йорку. Как-то вечером, где-то за год до прибытия Джо Кавалера, пришла телеграмма с сообщением о том, что на ярмарке под Гэлвистоном Альтер Клейман был раздавлен под задними колесами трактора «Дир», который пытался перевернуть, а вместе с ним была раздавлена и голубая мечта Сэмми – сбежать от своей жизни, работать с напарником.