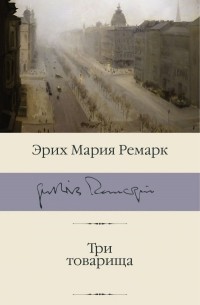Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
III
Во вторник утром мы завтракали во дворе мастерской. «Кадиллак» был готов. Ленц держал в руках лист бумаги и взирал на нас с видом триумфатора. Он ведал у нас рекламой и только что огласил нам с Кестером текст составленного им объявления о продаже автомобиля. Начиналось оно словами: «Домчит вас в отпуск в южные края шикарный лимузин», и было чем-то средним между одой и гимном.
Мы с Кестером молчали, опешив под натиском бурного потока цветистой фантазии. Ленц же полагал, что мы сражены.
– Тут вам и поэзия, и эффект, не так ли? – с гордостью спросил он. – В век деловитости нужно быть романтичным, в этом весь фокус. Контраст притягателен.
– Но не тогда, когда речь идет о деньгах, – вставил я.
– Автомобили, мой мальчик, покупают не для того, чтобы вложить деньги, – отмахнулся Готфрид. – Их покупают, чтобы деньги выложить. А уж тут начинается романтика, особенно у делового человека. У большинства она этим и кончается. А ты что думаешь, Отто?
– Видишь ли… – с осторожностью начал Кестер.
– Ну о чем тут толковать, – прервал я его, – такая реклама годится для курорта или дамского крема, но не для автомобиля.
Ленц открыл было рот.
– Минуточку, – продолжал я. – Нас ты подозреваешь в необъективности, Готфрид. Что ж, делаю предложение: давай спросим Юппа. Пусть то будет голос народа!
Юпп, наш единственный служащий, малый лет пятнадцати, был у нас чем-то вроде ученика. Он обслуживал бензоколонку, приносил еду на завтрак, убирал в конце рабочего дня. Был он щупл, весь в веснушках и с самыми огромными оттопыренными ушами, какие мне только доводилось видеть. Кестер говорил, что если бы Юпп упал с самолета, с ним бы ничего не случилось: он плавно опустился бы на землю на ушах, как на планере.
Мы позвали Юппа. Ленц прочитал ему объявление.
– Тебя заинтересовала бы такая машина, Юпп? – спросил Кестер.
– Машина? – переспросил Юпп.
Я засмеялся.
– Разумеется, машина, – проворчал Готфрид. – Не лошадь же.
– А есть у нее прямое переключение скоростей? А как управляется кулачковый вал – сверху? А тормоза гидравлические? – невозмутимо осведомился Юпп.
– Кретин, да ведь это же наш «кадиллак»! – прошипел Ленц.
– Не может быть, – возразил Юпп, осклабя рот до ушей.
– Съел, Готфрид? – сказал Кестер. – Вот тебе и современная романтика.
– Катись-ка ты к своему насосу, Юпп. Проклятое дитя двадцатого века!
Ленц, недовольно бурча, скрылся в мастерской, чтобы, не теряя поэтического накала в своем объявлении, придать ему все же больше технического веса.
Несколько минут спустя в нашем дворе неожиданно появился обер-инспектор Барзиг. Мы встретили его с превеликим почтением. Он был инженером и экспертом автомобильного страхового общества «Феникс», то есть человеком влиятельным, если говорить о распределении заказов на ремонт. У нас с ним были налажены прекрасные отношения. Как инженер он, правда, был сам стоокий сатана, ни в чем не дававший спуску, зато как знаток бабочек он был мягче воска. У него была большая коллекция, которую и мы однажды удачно пополнили, подарив ему огромную ночную бабочку, залетевшую к нам в мастерскую. Барзиг даже весь побледнел и приобрел крайне торжественный вид, когда мы вручали ему эту тварь. Оказалось, то была «мертвая голова», величайшая редкость, коей как раз недоставало в его собрании. Он никогда не забывал об этой услуге и с тех пор снабжал нас заказами, как только мог. А мы за то ловили ему все, что только могли поймать.
– Рюмочку вермута, господин Барзиг? – спросил Ленц, вполне пришедший в себя после конфуза.
– До вечера ни капли спиртного, – ответил Барзиг. – Это у меня железный принцип.
– Принципы нужно иногда нарушать, иначе от них никакой радости, – возразил Готфрид, наливая. – За грядущее процветание бражника, «павлиньего глаза» и перламутровки.
Барзиг колебался не долго.
– Ну, раз уж вы заходите мне в тыл с этой стороны, то я вынужден сдаться, – сказал он, беря в руки рюмку. – Но тогда уж чокнемся и за «воловий глаз». – И он ухмыльнулся с таким видом, будто отпустил какую-нибудь двусмысленную шутку по адресу женщины. – Дело в том, что я тут недавно открыл новую разновидность – со щетинистыми усиками.
– Черт возьми, – воскликнул Ленц, – вот так штука! Теперь вы, стало быть, первооткрыватель, и ваше имя запишут на скрижалях науки!
Мы выпили еще по одной во славу щетинистых усиков, Барзиг вытер подбородок.
– А у меня для вас хорошая новость. Можете забирать «форд». Дирекция утвердила ремонт за вами.
– Великолепно, – сказал Кестер. – Это нам очень кстати. А как дела с нашей сметой?
– Тоже утверждена.
– Без сокращений?
Барзиг прищурился одним глазом.
– Сначала руководство ни в какую не соглашалось. Но в конце концов…
– За страховое общество «Феникс» нужно выпить по полной! – выпалил Ленц, снова наполняя рюмки.
Барзиг встал и начал прощаться.
– Подумать только, – сказал он, уходя. – Женщина, которая была в «форде», все-таки на днях умерла. А ведь у нее были всего лишь порезы. Видно, потеряла много крови.
– Сколько же ей было лет? – спросил Кестер.
– Тридцать четыре, – ответил Барзиг. – Беременность на четвертом месяце. Двадцать тысяч страховки.
Мы сразу же поехали за машиной. Она стояла во дворе владельца булочной. Подвыпивший булочник врезался на ней ночью в стену. Пострадала только жена, сам он не получил и царапины.
Мы встретили его в гараже, куда отправились, чтобы подготовить машину к буксировке. Какое-то время он молча наблюдал за нами; кургузый, с мясистым затылком, короткой шеей, он стоял, склонив голову, напоминая мешок, прислоненный к стене. С нездоровым, сероватым, как у всех пекарей, цветом лица, в полумраке он походил на большого мучного червя. Наконец он медленно приблизился.
– Когда машина будет готова? – спросил он.
– Недели через три, – ответил Кестер.
Булочник ткнул пальцем в кузов.
– Это ведь тоже включено в общий счет, не так ли?
– Как так? – спросил Отто. – Верх целехонек.
Булочник сделал нетерпеливый жест.
– Конечно-конечно. Но ведь общая-то сумма большая. Так что может хватить и на кузов. Мы ведь понимаем друг друга?
– Нет, – сказал Кестер.
Понять было несложно. Этот тип хотел задарма получить новый кузов, включив его потихоньку в общую смету страховки. Мы немного поспорили. Он пригрозил аннулировать заказ, передоверив его другой, более покладистой мастерской. И Кестер в конце концов уступил. Он никогда не сделал бы этого, если б у нас была другая работа.
– Ну вот, сразу бы так, – криво усмехнулся булочник. – Значит, я зайду на днях – материал подобрать. Лучше бы всего беж. Каких-нибудь нежных оттенков…
Мы тронулись в путь. На шоссе Ленц показал рукой на большие темные пятна, что были на сиденьях «форда».
– Кровь его погибшей жены. А он новый кузов себе выжуливает. «Беж». «Нежных оттенков». Хорош гусь! Не удивлюсь, если он слупит страховку за двух мертвецов. Ведь жена-то была беременна.
Кестер пожал плечами:
– Он, по-видимому, считает, что это разные вещи, которые не надо путать.
– Наверное, – согласился Ленц. – Есть ведь люди, которые и в несчастье находят счастье. А нам это обойдется ровно в полсотни.
После обеда я под благовидным предлогом отправился домой. На пять у меня была назначена встреча с Патрицией Хольман, но в мастерской я не сказал об этом ни слова. Не то чтобы хотел скрыть, просто не верил, что это случится.
Она предложила для свидания одно кафе. Раньше я там никогда не бывал, знал только, что это небольшое изысканное заведение. С тем и отправился. Но едва переступил порог, как непроизвольно отпрянул. Все помещение было набито женщинами, и они галдели. Я попал в типично дамскую кондитерскую.
Мне с трудом удалось протиснуться к столику, который только что освободился. Я неприязненно огляделся. Кроме меня, тут было еще только двое мужчин, да и те мне не понравились.
– Кофе, чаю, шоколаду? – спросил кельнер, смахивая салфеткой крошки от пирожного прямо мне на костюм.
– Двойную порцию коньяка, – с вызовом сказал я.
Он принес коньяк. Но заодно привел с собой целый хоровод алчущих места дамочек во главе с преклонного возраста особой атлетического сложения в шляпе со страусовыми перьями.
– Вот, не угодно ли, четыре места, – сказал кельнер, указывая на мой стол.
– Стоп, стоп! – возразил я. – Здесь занято. Ко мне должны прийти.
– Нет, так не годится, уважаемый, – сказал кельнер. – В это время у нас нельзя занимать места.
Я посмотрел на него. Потом перевел взгляд на даму атлетического сложения, которая уже вплотную подошла к столу и вцепилась в спинку стула. Я увидел ее лицо и понял, что дальнейшее сопротивление бессмысленно. Пали хоть из пушек, решимости этой дамы завоевать стол не поколебать.
– Не могли бы вы по крайней мере принести мне еще коньяку? – в ворчливом тоне обратился я к кельнеру.
– Извольте, сударь. Опять двойной?
– Да.
– Слушаюсь. – Он поклонился. – Это ведь столик на шесть персон, – сказал он извиняющимся тоном.
– Ладно уж, принесите только коньяк.
Атлетка, надо полагать, была из общества трезвости. Она с таким видом уставилась на мой коньяк, точно это была тухлая рыба. Чтобы позлить ее, я заказал еще и, в свой черед, уставился на нее. Вся эта ситуация показалась мне вдруг ужасно нелепой. Зачем я здесь? И чего я хочу от этой девушки? Я даже не был уверен, что узнаю ее в такой суматохе и при таком гаме. Начиная злиться, я опрокинул коньяк.
– Салют! – послышалось у меня за спиной.
Я вскочил. Передо мной стояла она и смеялась.
– А вы, я вижу, не теряете времени?
Я поставил на стол рюмку, которую все еще держал в руке. На меня вдруг нашло замешательство. Девушка выглядела совсем по-другому, чем я помнил. В этом скопище упитанных, жующих пирожные женщин она походила на юную стройную амазонку – холодную, сияющую, уверенную в себе, недоступную. «Ничего у меня с ней не выйдет», – подумал я и сказал:
– Как это вы здесь появились? Словно призрак! Ведь я все время следил за дверью.
Она указала куда-то вправо.
– Тут есть еще один вход. Но я опоздала. Вы давно ждете?
– Нет, совсем нет. Минуты две-три, не больше. Я тоже только что пришел.
Хоровод за моим столом умолк. Я чувствовал на своем затылке оценивающие взгляды четырех матрон.
– Останемся здесь? – спросил я.
Девушка скользнула по столу быстрым взглядом. Губы ее слегка дрогнули в полуулыбке. Она весело посмотрела на меня.
– Боюсь, кафе везде одинаковы.
Я покачал головой:
– Если они пустые, они уже лучше. А здесь какой-то дьявольский притон, в нем можно нажить комплекс неполноценности. Лучше уж перейти в какой-нибудь бар.
– Бар? Разве бывают бары, открытые среди бела дня?
– Я знаю один. В нем, правда, совсем тихо. Но если вы не против тишины…
– Иной раз очень даже не против…
Я посмотрел на нее. В это мгновение я не мог понять, что она имеет в виду. Иронию я ценю, но не ту, что направлена против меня. Правда и то, что совесть моя всегда нечиста.
– Итак, идем, – сказала она.
Я подозвал кельнера.
– Три двойных коньяка! – проорал этот горе луковое таким зычным голосом, будто ему нужно было докричаться в могилу. – Три марки тридцать пфеннигов.
Девушка обернулась.
– Три двойных коньяка за три минуты? Ничего себе темп.
– Два из них оставались за мной со вчерашнего дня.
– Ну и лжец! – прошипела атлетка за моей спиной. Она слишком долго молчала.
Я обернулся и поклонился.
– Приятного Рождества, сударыни! – бросил я им, уходя.
– Вы что, повздорили с ней? – спросила меня девушка на улице.
– Так, ничего особенного. Просто я произвожу неблагоприятное впечатление на респектабельных домашних хозяек.
– Я тоже, – заметила она.
Я взглянул на нее. Она казалась мне существом из другого мира. Я совершенно не мог себе представить, кто она такая и как живет.
В баре я почувствовал куда более твердую почву под ногами. Когда мы вошли, бармен Фред протирал за стойкой большие рюмки для коньяка. Он поздоровался со мной так, будто видит меня впервые и будто не он волок меня третьего дня домой. Школа у него была отменная, опыт огромный.
В зале было пусто. Только за одним столиком сидел, по обыкновению, Валентин Хаузер. Я знал его еще с войны, мы служили в одной роте. Однажды он под ураганным огнем принес мне на передовую письмо, так как думал, что оно от матери. Он знал, что я жду от нее письма, потому что ее должны были оперировать. Но он ошибся – то была всего-навсего реклама подшлемников из крапивной ткани. На обратном пути он был ранен в ногу.
Вскоре после войны Валентин получил наследство. С тех пор он его пропивал. «Надо же, – говорил он, – отпраздновать такое счастье – живым вернуться с войны». А то, что это было давно, для него не имело значения. Он утверждал, что сколько ни празднуй такое событие, все будет мало. Он был одним из тех, у кого память на войну была чудовищная. Мы все уже многое забыли, он же помнил каждый день и каждый час, проведенный на фронте.
Было заметно, что он выпил уже немало и сидел в своем углу, целиком погрузившись в себя, от всего отрешившись. Я поднял руку:
– Салют, Валентин!
Он очнулся и кивнул:
– Салют, Робби!
Мы сели за столик в углу. Подошел бармен.
– Что вы будете пить? – спросил я девушку.
– Может быть, рюмку мартини, – сказала она. – Сухого мартини.
– Ну, по этой части Фред специалист, – заметил я.
Фред позволил себе улыбнуться.
– Мне как обычно, – сказал я.
В баре было полутемно и прохладно. Пахло пролитым джином и коньяком. Запах был терпкий, напоминавший запах можжевельника и хлеба. С потолка свисала деревянная модель парусника. Стена за стойкой была обита медью. Приглушенный свет лампы отбрасывал на нее багровые блики, будто из преисподней. В ряду маленьких кованых бра горели лишь два – над столиком Валентина и над нашим. Желтые пергаментные абажуры у них были сделаны из старинных географических карт, они светились, как узкие ломтики мира.
Я был несколько смущен и толком не знал, с чего начать разговор. Ведь я совсем не знал эту девушку, и чем больше разглядывал ее, тем более незнакомой она представлялась мне. Давно уже я ни с кем вот так не сидел, и результат налицо – разучился. Привык общаться с мужчинами. Там, в кафе, мне мешал шум, здесь вдруг стала мешать тишина. Из-за нее каждое слово приобретало такой вес, что было трудно говорить непринужденно. Впору хоть вернуться обратно в кафе.
Фред принес заказ. Мы выпили. Ром был крепок и свеж. Он пах солнцем. Он был тем, за что можно было держаться. Я залпом выпил и сразу же вернул Фреду бокал.
– Вам нравится здесь? – спросил я.
Девушка кивнула.
– Больше, чем там, в кондитерской?
– Терпеть не могу кондитерские, – сказала она.
– Зачем же вы назначили встречу именно там? – спросил я озадаченно.
– Не знаю. – Она сняла берет. – Мне просто не пришло в голову ничего другого.
– Тем приятнее, что вам здесь нравится. Мы здесь часто бываем. По вечерам эта лачуга становится для нас чем-то вроде родного дома.
Она засмеялась.
– А разве это не печально?
– Нет, – сказал я. – Это в духе времени.
Фред принес мне вторую рюмку. А рядом с ней положил на стол зеленую «Гавану».
– Это от господина Хаузера.
Валентин помахал мне из своего угла и поднял рюмку.
– Тридцать первое июля семнадцатого года, Робби, – прохрипел он.
Я кивнул ему в ответ и тоже поднял рюмку.
Ему непременно нужно было с кем-нибудь выпить, я не однажды встречал его вечерами в одном из сельских трактиров и видел, как он чокается с луной или кустом сирени. При этом он вспоминал какой-нибудь особенно трудный день из числа проведенных в окопах и был благодарен судьбе за то, что уцелел и может вот так сидеть.
– Мой приятель, – сказал я девушке. – Товарищ по фронту. Единственный известный мне человек, который из большого несчастья сделал маленькое счастье. Он больше не знает, что ему делать со своей жизнью, и поэтому просто радуется тому, что жив.
Девушка задумчиво посмотрела на меня. Косой луч света упал на ее лоб и губы.
– Мне это так понятно, – сказала она.
Я посмотрел ей в глаза.
– Но этого не должно быть. Ведь вы слишком молоды.
Улыбка порхнула по ее лицу. Улыбались только глаза, а само лицо почти не изменилось, лишь как-то слегка осветилось изнутри.
– Слишком молода, – повторила она. – Так принято говорить. Но я думаю, слишком молодыми люди никогда не бывают. Только слишком старыми.
Я чуть помедлил с ответом.
– На это можно было бы многое возразить, – сказал я и знаком дал понять Фреду, чтобы он принес мне еще.
Девушка держала себя просто и непринужденно, я же казался себе рядом с ней чурбаном неотесанным. Ах, как было бы славно затеять сейчас легкий, игривый разговор – настоящий, который приходит в голову, уже когда остаешься один. Вот Ленц был на это мастак, у меня же вечно все получалось неуклюже и тяжеловесно. Недаром Готфрид любил повторять, что по части светской беседы я стою где-то на уровне писаря.
К счастью, Фред был догадлив. На сей раз вместо наперстка он принес мне изрядный бокал вина. И ему не нужно лишний раз бегать туда-сюда, и меньше заметно, сколько я пью. А не пить мне нельзя, без этого деревянной тяжести не преодолеть.
– Не хотите ли еще рюмочку мартини? – спросил я девушку.
– А что пьете вы?
– Это ром.
Она стала разглядывать мой бокал.
– В прошлый раз вы пили то же самое.
– Да, – сказал я, – ром я пью чаще всего.
Она покачала головой:
– Не могу себе представить, чтобы это было вкусно.
– А я так и вовсе не знаю, вкусно ли это.
Она посмотрела на меня.
– Зачем же вы пьете?
– Ром, – сказал я, радуясь, что наконец-то есть то, о чем я могу говорить, – ром вне измерений вкуса. Ведь это не просто напиток, это скорее друг. Друг, с которым легко. Он изменяет мир. Оттого-то люди и пьют его… – Я отодвинул бокал. – Но не заказать ли вам еще рюмку мартини?
– Лучше рома, – сказала она. – Хочется попробовать.
– Хорошо, – сказал я. – Но тогда не этот. Для начала он, пожалуй, слишком тяжел. Принеси-ка нам коктейль «Баккарди»! – крикнул я Фреду.
Фред принес рюмки. Вместе с ними он поставил вазочку с соленым миндалем и жареными кофейными зернами.
– Давай уж сюда всю бутылку, – сказал я.
Постепенно все обретало свой лад и толк. Неуверенность исчезала, слова рождались теперь сами собой, я даже перестал следить за тем, что говорю. Я продолжал пить и ощущал, как большая ласковая волна, накатив, подхватила меня, как пустые сумерки стали наполняться видениями, а над немыми, скудными низинами бытия потянулись безмолвные грезы. Стены бара отошли, расступились – и вот уже то был не бар, а укромный уголок мира, приют спасения, полутемный сказочный грот, вокруг которого бушевали вечные битвы хаоса, а внутри, сметенные сюда загадочной силой неверного времени, прятались мы.
Девушка сидела, съежившись на своем стуле, чужая и таинственная, словно ее занесло сюда откуда-то из другой жизни. Я что-то говорил и слышал свой голос, но чувство было такое, что это не я говорю, а кто-то другой, кем я мог бы, кем я хотел бы быть. Слова значили не совсем то, что обычно, они смещались, теснились, выталкивая друг друга в иные, более яркие и светлые края, куда не вписывались мелкие события моей жизни; я знал, что слова мои уже не были правдой, что они стали фантазией, ложью, но это теперь не имело значения – правда была безутешной и плоской, и лишь чувство и отблеск грез были истинной жизнью…
В медной бадье бара плавало солнце. Время от времени Валентин поднимал бокал и бормотал себе под нос какую-то дату. За окнами хищными вороньими вскриками автомобилей глухо катилась улица. Иногда крики улицы врывались и к нам – вместе с открываемой дверью. Кричала улица, как сварливая, завистливая старая карга.
Было уже темно, когда я проводил Патрицию Хольман. И медленно поплелся домой. Внезапно накатило чувство одиночества и опустошения. С неба сеялся мелкий дождик. Я остановился перед витриной. Да, выпито слишком много, я заметил это только теперь. Меня вовсе не шатало, но я это отчетливо осознал.
Я вдруг почувствовал жар. Расстегнул пальто и сдвинул шляпу на затылок. Черт побери, опять меня развезло! Знать бы, что я ей наговорил! Страшно было даже припомнить. Да я и не мог ничего вспомнить, и это было самое ужасное. Здесь, на холодной, громыхающей автобусами улице, все выглядело совершенно иначе, чем в полутьме бара. Я проклинал себя самого. Можно представить, какое впечатление я произвел на девушку! Она наверняка все заметила. Ведь она почти не пила. Прощаясь, она так странно на меня смотрела…
О Господи! Я круто повернулся. И при этом столкнулся с каким-то низкорослым толстяком.
– Ну? – сказал я с яростью.
– Раскройте глаза пошире, вы, чучело огородное! – пролаял толстяк.
Я уставился на него.
– Что, людей не видали, а? – продолжал он тявкать.
Его-то мне и недоставало.
– Людей видал, – ответил я, – а вот чтобы по улице расхаживали пивные бочки – такое вижу впервые.
Толстяк не задержался с ответом ни на секунду. Раздувая щеки, он немедленно фыркнул:
– Знаете что? Ступайте в зоопарк! Сонным кенгуру не место на улице.
Я понял, что имею дело с бранных дел мастером. Нужно было вопреки скверному настроению спасать свою честь.
– Не сбейся с пути истинного, слабоумок недоношенный, – сказал я и поднял руку в знак благословения.
Он и ухом не повел.
– Залей мозги бетоном, горилла плешивая! – пролаял он.
Я отпарировал «выродком криволапым». Он – «попугаем занюханным». Тогда я выдал «безработного мойщика трупов». На что он, уже с некоторым респектом, отвесил: «Изъеденный раком бараний рог».
Чтобы добить его, я пустил в ход «ходячее кладбище бифштексов».
Его лицо внезапно прояснилось.
– Ходячее кладбище бифштексов! – воскликнул он. – Этого я еще не знал. Включу в свой репертуар! Пока!..
Он приподнял шляпу, и мы расстались, преисполненные взаимного уважения.
Перебранка освежила меня. Однако раздражение не исчезло. Оно даже усиливалось по мере того, как я трезвел. Я казался себе выкрученным мокрым полотенцем. Но постепенно это раздражение на себя самого перешло в раздражение на весь мир вообще – в том числе и на девушку. Ведь это из-за нее я напился. Я поднял воротник. Ну и пусть себе думает обо мне что хочет, теперь это мне безразлично – по крайней мере она с самого начала узнала, с кем имеет дело. А по мне, так и катись все к черту, – что случилось, то случилось. Все равно ничего не изменишь. Пожалуй, так даже лучше…
Я вернулся в бар и теперь уже напился по-настоящему.