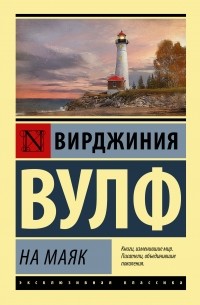Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
6
Но что случилось?
Кто-то ошибся.
Оторвавшись от дум, она вдруг осмыслила слова, уже давно отдававшиеся у нее в голове без всякого смысла. Кто-то ошибся. Найдя близорукими глазами мужа, который устремлялся теперь на нее, она продолжала смотреть, пока он не подошел совсем близко (созвучья сложились у нее в голове), и она поняла, что что-то случилось, кто-то ошибся. Господи боже, да что ж там такое?
Он сдался; он дрогнул. Вся его суетность, вся уверенность в собственном великолепии, когда, как стрела, как сокол стремясь во главе своей рати, он несся долиной смерти – погибла, рассеялась. Под ярый снарядов вой, смело кидаясь в бой, он несся долиной смерти, над краем беды и вот расстроил ряды – Лили Бриско и Уильяма Бэнкса. Он дрогнул; он сдался.
Ни за что, ни за что сейчас нельзя было с ним заговаривать, потому что по некоторым неопровержимым признакам, по тому, как он отводил глаза, как весь съежился, сжался, будто прятался, чтоб ему не мешали вновь обрести равновесие, она поняла, что он разобижен и оскорблен. Она гладила Джеймса по голове; перенеся на него свое отношение к мужу, следя за маневрами желтого карандаша по белой манишке господина из каталога, она думала, как было бы дивно, если б он стал великим художником; почему бы нет? У него такой прекрасный лоб. Затем, подняв глаза на опять проходящего мимо мужа, она с облегчением убедилась, что беда миновала; победила прирученность; вновь завела свой баюкающий напев привычка; а потому, когда на повороте он намеренно остановился возле окна и шутливо нагнулся – пощекотать голую ногу Джеймса каким-то там прутиком, она ему попеняла, что спугнул «бедного юношу Чарльза Тэнсли». Тэнсли надо писать диссертацию, – сказал он.
– Джеймсу в свое время тоже придется писать диссертацию, – сказал он с ухмылкой, орудуя прутиком.
Джеймс ненавидел отца и оттолкнул этот прутик, которым в обычной своей манере – смесь серьезности и дурачества – он щекотал ногу младшему сыну.
Она вот хочет покончить с этим нудным чулком, чтоб уж послать его завтра сынишке Сорли, – сказала миссис Рэмзи.
Нет ни малейшей вероятности, что завтра они выберутся на маяк, – раздраженно отрезал мистер Рэмзи.
Откуда ему это известно? – спросила она. – Ветер ведь меняется часто.
Совершеннейшая неразумность ее замечания, удивительная женская нелогичность взбесили его. Он скакал долиной смерти, он дрогнул, он сдался; а тут еще она не считается с фактами, подает детям абсолютно несбыточные надежды, попросту, собственно, лжет. Он топнул ногой по каменной ступеньке. «Фу-ты, черт!» – сказал он ей. Но что она такого сказала? Только – что завтра, может быть, будет хорошая погода. Так ведь и правда, может быть, будет.
Нет, если барометр падает и резко западный ветер.
Удивительное пренебрежение к чувствам другого во имя истины, резкий, грубый выпад против простейших условностей показались ей таким чудовищным попранием всех человеческих правил, что, огорошенная, ошарашенная, она склонила голову без ответа, будто безропотно подставляясь колкому граду, мутному ливню. Ну, что на такое сказать?
Он молча стоял перед нею. Очень смиренно он сказал наконец, что готов пойти расспросить береговую охрану, если угодно.
Никого она так не чтила, как чтила его.
Ей и его слова вполне довольно, – сказала она. Просто тогда надо сказать им, чтоб бутербродов не делали, вот и все! Они ведь все спрашивают, поминутно к ней прибегают, естественно, – за одним, за другим, на то она женщина; каждому что-нибудь нужно, дети растут; часто ей кажется – она просто-напросто губка, напитанная чужими чувствами. И вот он говорит: «Фу-ты, черт!» Он говорит – будет дождь; говорит – дождя не будет; и ей открывается безоблачное, беззаботное небо. Никого никогда она так не чтила. Она знала – она недостойна развязать ремень обуви его.
Уже стыдясь собственной вспышки и того, как размахивал он руками, несясь во главе рати, мистер Рэмзи, довольно глупо, ткнул напоследок голую ногу сына и, словно получив разрешенье жены (и до смешного ей напомнив тюленя в Зоологическом саду, когда, заглотнув свою рыбу, тот плюхнется прочь, расколыхав всю воду в бассейне), нырнул в линяющий вечер, который лишал уже объемности листья, изгороди и, словно взамен, одевал гвоздики и розы сиянием, какого в них не было днем.
– Кто-то ошибся, – сказал он, опять принимаясь вышагивать взад-вперед по садовой террасе.
Но как удивительно у него изменился голос! Как у кукушки; которая «июньским деньком поет не о том», будто он пробовал, искал струну для нового настроения и взял ту, что, хоть уже и сорванная, легла под руку. Как же это звучало смешно, «Кто-то ошибся», произносимое таким тоном, почти вопросительно, без убеждения, враспев. Миссис Рэмзи невольно улыбнулась, и в самом деле скоро, бродя взад-вперед по террасе, он эту фразочку пробубнил, обронил, – умолк.
Он был спасен, он вновь обрел ненарушимое уединение. Он остановился раскурить трубку, глянул на жену и сына в окне и, как, несясь в скором поезде мимо дерева, и двора, и постройки, поднимаешь от книги взгляд и в них видишь иллюстрацию, подтверждение чему-то на печатной странице и потом возвращаешься к ней подкрепленный, подбодренный, так и он, не видя, собственно, ни жены, ни сына, глянув на них, подкрепился, подбодрился и мог спокойно сосредоточиться дальше на разрешенье проблемы, которая поглощала все силы его блистательного ума.
Да, блистательного ума. Ибо, если мышление уподобить клавиатуре рояля, разделенной на столько-то клавиш, либо алфавиту, в котором буквы от первой и до последней выстроены в строгом порядке, – его блистательный ум без труда пробегает по всем этим буквам, пока не доходит, скажем, до П. Он достиг П. Очень немногие во всей Англии достигали когда-нибудь П. Тут, остановясь на минутку подле урны с геранями, он увидел – уже далеко-далеко, как детишек, собирающих ракушки на пляже, дивно невинных, поглощенных смешной чепухой у себя под ногами и решительно беззащитных против происков рока, которые он-то уже раскусил, – жену и сына, рядышком, в окне. Они нуждаются в его защите; она им обеспечена. Ну-с, хорошо – а после П? Что дальше? После П целый ряд букв, из которых последняя едва различима смертному взору и лишь смутно мерцает вдали. Ее достигает единственный в поколении. Однако если добраться хотя бы до Р – это уже кое-что. П он достиг. Тут он окопался. В П он абсолютно уверен. П он готов доказать. Но если П есть П, значит, Р… Тут он выбил трубку, несколько раз звонко стукнув по бараньему рогу, служившему урне ручкой, и стал думать дальше. «Значит, Р…» Он подобрался, напрягся.
Качества, при которых корабельная команда продержалась бы в бушующем море на шести сухарях и на фляге воды – выдержка, осмотрительность, справедливость, преданность, ловкость, – пришли к нему на выручку. Значит, Р… да, так что же такое Р?
Пленкой, как трепетным кожаным веком ящерицы, подернуло его зоркий взор, заслонило букву Р. И в этом озарении тьмы он услышал, как люди говорят, – он не состоялся, куда ему Р, Р ему не по зубам. Так нет же, вперед, к Р. Р…
Качества, которые нужны проводнику, вожаку, вдохновителю отчаянной экспедиции в стылую одинокость полярной ночи, чтоб, не поддаваясь ни отчаянию, ни обманным мечтам, твердо глянуть в лицо судьбе, – снова пришли к нему на выручку.
Снова дрогнуло веко ящерицы. На лбу у него взбухли жилы. Герани в урне стали странно прозрачны, и сквозь них проступало, хочешь не хочешь, древнее, очевиднейшее различие между двумя классами людей; с одной стороны – неустанные, сверхупорные, вышагивающие по порядку по всему алфавиту и его затверживающие от начала и до конца; и с другой – одаренные, вдохновенные, разом сглатывающие все буквы – гении. Он не гений; он на это не посягает; но он в состоянии или был в состоянии четко вытвердить весь алфавит. А меж тем – завяз на П. Ну, так вперед – к Р.
Чувство, которое не обесчестит и альпиниста, если тот видит, что валит снег и горы канули в муть, и, значит, придется лечь и принять смерть до утра – такое вот чувство нашло на него, разом выцветило глаза и на очередном повороте вдруг превратило его на миг в дряхлого старца. Но нет, он не намерен умирать лежа; он найдет выступ в скале и там, вглядываясь в бурю, не сдаваясь, прорываясь сквозь тьму, он встретит смерть стоя. Никогда ему не добраться до Р.
Он застыл подле урны со стекающими геранями. Да сколько же человек из тысячи миллионов достигали последней буквы? Разумеется, предводитель обреченной надежды может задать себе этот вопрос и ответить, не подводя соратников-землепроходцев: «Наверно, единственный». Единственный в поколении. Так можно ль его упрекать, что он не этот единственный? Если он честно трудился, отдавая все силы, покамест стало уже нечего отдавать? Ну а славы его – надолго ли станет? Даже умирающему герою позволительно перед смертью подумать о том, что о нем скажет потомство. Слава может держаться две тысячи лет. Но что такое две тысячи лет? (Иронически адресовался мистер Рэмзи к цветущей изгороди.) В самом деле – что? Если взглянуть с горной вершины на пустыни веков? Эти камни, которые пинаешь ногой, долговечней Шекспира. Ну а его огонек год-другой поблестит, а потом и потонет в более ярком, тот – в еще более ярком. (Он вглядывался в темный, сложный заговор изгороди.) И кто упрекнет предводителя обреченной кучки, которая все же вскарабкалась достаточно высоко и видит пустыни лет, угасание звезд, кто его упрекнет, если, покуда смерть не сковала совсем его члены, он не без умысла поднимает онемелые пальцы ко лбу, расправляет плечи, чтобы, когда подоспеют спасатели, его нашли мертвого на посту безупречным солдатом? Мистер Рэмзи широко развернул плечи и очень прямо стоял возле урны.
Кто упрекнет его, если, стоя вот так подле урны, он размечтался на миг о спасателях, славе, мавзолее, который возведут над его костями благодарные продолжатели? Кто, наконец, упрекнет вождя безнадежной экспедиции, если, исчерпав всю отвагу, все силы, он засыпает, не заботясь о том, проснется он или нет, и по легкому колотью в пальцах догадывается, что жив и вовсе не прочь еще пожить, но мечтает о сочувствии, о виски, о ком-то, кто немедленно выслушал бы рассказ про его злоключенья? Кто его упрекнет? Кто тайком не порадуется, когда герой снимет доспехи, остановится подле окна, глянет на жену и на сына, очень дальних сперва; подплывавших все ближе и ближе, покуда губы, книга, глаза ясно вырисуются перед ним, такие еще дивные, непривычные после пристальности отъединенья и пустыни веков, угасания звезд, и он наконец сунет трубку в карман и склонит перед ней величавую голову – кто его упрекнет, если он склоняется перед красою вселенной?