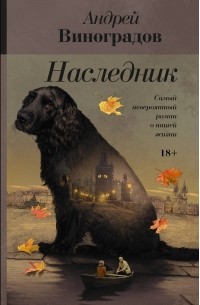Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
Часть вторая. Суббота
Глава 1. Мамина квартира и прочие чудеса
У закрытой двери произведение из дерьма. Горкой. Отсутствует лишь свеча на вершине. Пик Волюнтаризма, – присваиваю я имя, хм… инсталляции, имея в виду произвольность решения.
– Спасибо тебе, Дядя Гоша. Уважил.
– А ты как хотел? – ворчит он в ответ. Не умеет признаваться, что виноват. В то же время слепой не заметит, что ему неудобно. Наверное, выбирал, бедолага, из двух зол: дать знать, что уже пора на выгул, или придержать это знание? Однако же единственное и придержать…
– Я не злюсь.
– Еще бы ты злился. Если в комнате насрано, значит человеческий фактор облажался. У кого хочешь спроси.
– Кто спорит?
– С «днюхой» тебя, короче.
– С «днюхой»? У тебя что, новая подружка из мира гламура? Светская львица? Нет, не львица, львица для тебя крупновата будет.
– Ты особо-то не того… Крупновата. Будет оказия, тогда и посмотрим. Да нет, не подружка. Так вышло. Вылетело. Случайность. Слово понравилось. Плюха-днюха-ш…
– Стоп, не продолжай. Муха-Цокотуха… Соседку не слышишь? Дома она?
– Куда-то полчаса назад ушлёпала.
– А ты все маешься.
– А я все маюсь. Собственно уже и нет, как ты заметил.
– Да уж, тут пройдешь мимо, не заметишь… С другой стороны, неплохо, что нужда спешить отпала. Сейчас соберусь и сразу к матери двинем. Не спеша. Вот и прогуляешься. Главное, по-тихому давай, чтобы Петруху не разбудить.
Я невольно замираю, с ужасом ожидая окрика: «Сухов!» Но нет. Пока мне везет.
– Уговорил, я, так и быть, с малой потребностью до двора дотерплю. Но смотри, особо не рассусоливай.
Покладистость Дяди Гоши – его второй по счету подарок. Самый дорогой. Жаль, в покладистость свечку не вставишь. С этими мыслями и подобающим выражением лица я берусь устранять первый, у двери.
«Ну так я потихоньку начну накрывать?»
«Мамочка… Удивительно удачно выбран момент…»
«Ну, прости, проглядела».
«Да что уж там, мы люди простые. Через часик, наверное, буду. Максимум через полтора. Я с Дядей Гошей».
«Неужто сам соизволит явиться? Что-то сильно я сомневаюсь».
«Не знаю, не спрашивал. Да и смысла нет, скажет: как пойдет…»
«Постарайся слишком не задерживаться».
«До пяти еще времени море».
«Как сказать. Целую и до скорого».
Что это я? Мама захочет, так пять часов вечера через минуту наступит.
«Сглупил…»
«Рада, Ванечка, что наконец проснулся. Целую еще раз».
Пока убираю за Дядей Гошей подарок, неожиданно сознаю, что за все годы соседства с Петрухой ни разу не задумался – как и где домовые справляют нужду? Мотив вопроса мне ясен – парень которые сутки сидит в банке. Но не его же расспрашивать? Конечно, нет, себе дороже выйдет. Посему я без колебаний признаю состоявшимся скороспелый вывод: не знаю, как у других домовых, а у моего испражнения прямо на месте перерабатываются в характер. Замкнутый цикл, а не существо, совершенно безотходное.
«Часы, кошелек, ключи…». Смысл только в последних.
– Тронулись, Дядь Гош.
– Прямо на французский манер.
– Как скажешь.
За маминым окном несколько растрепанных облаков на ярко-голубом фоне. Кто-то из своих, по ошибке допущенных в святая святых, подло выдрал клок из бороды Господа. Теперь несется распавшийся клок по небу, неприкаянный, и земле и небу совершенно лишний. На подоконнике однолапое, безухое существо. Не будь оно моей детской игрушкой, в жизни не признал бы в нем зайца. Несчастный зверек давным-давно был превращен моим неуемным и безответственным любопытством в помоечного уродца. Дети – первейшие расчленители, но только единицы их несут этот дар через всю жизнь. Я о патологоанатомах. Но и не только.
Единственной сохранившейся лапой заяц прикреплен к трапеции и крутится, крутится без передышки. Оказавшись в высшей точке, распахивает глазища на полморды и трепещет верхней губой, оголяя резцы. Словно только в этот единственный и никакой другой миг опасается, что сейчас оторвется и улетит вслед за ушами и недостающими лапами чёрти куда. Почему-то моего зайца совершенно не беспокоит, что с таким же успехом он может врезаться со всего маху в массивный гранит подоконника.
– Падая вниз, он закрывает глаза, сынок. Не видит, поэтому не боится.
– Точно.
«Как я сам до этого не додумался? Ведь проще простого. У всех так».
– Ошибаешься. У людей не так. У людей наоборот. Люди боятся того, что видят, и в ужасе от незримого.
Иногда моей мамой овладевает причудливая сентиментальность. Как-то я забежал к ней чаю попить, а по кухонному подоконнику носится мятый-перемятый красный грузовик. В его кузове, точно так же, как лет двадцать тому назад, теснится дюжина оловянных фашистов. Фашисты в мундирах солдат наполеоновской армии. Других тогда не нашлось, да и сейчас с оловянными фашистами напряженно, я не встречал. Живых – да, оловянных – нет. Впрочем, живые выглядели вполне оловянными, но очевидно крупноватыми для игр на ковре. Тем более на подоконнике.
Кроме меня, автора «пьесы», в ролях, уготованных игрушкам, ошибиться было некому. Я же точно знал, с кем имею дело. С фашистами Наполеона. Противную сторону представляли, как водится, партизаны. То есть я сам в компании оловянных друзей безошибочной краснозвездной принадлежности. Мы забрасывали грузовик гранатами и бомбами, вырезанными из ластиков. Для бомб я выменивал в школе синие ластики, потому что бомбы сыпались с неба. На гранаты годился любой материал.
Короче, этот автомобиль привык страдать. Фашисты, вырядившиеся французскими гусарами и кирасирами – хорошо хоть пешие, – тоже. Они, собственно, были с этой машиной не разлей вода и живыми кузов не покидали ни разу. Я такого не помнил.
Ветеран, переживший не одну дюжину баталий, грузовик яростно скрежетал всем, что двигалось и соприкасалось друг с другом. Двигалось и соприкасалось все со всем, и слух меня не обманывал – через силу. Ко всем неблагоприобретенным напастям машине ежесекундно грозило сорваться с высоты подоконника на пол. Иной вероятностью было врубиться в оконную раму, до трещин перепугав беззащитное стекло.
Стекла ненавидят тяжелые, неопрятно перемещающиеся в пространстве предметы. Люди тоже, но в меньшей степени об этом думают. Стекла же напрочь лишены фатализма.
Я всерьез опасался, что стекло не выдержит и само по себе, от переживаний, до срока растрескается. Помню, в больнице мне дали слабительное, сказали: подействует через час, не раньше. У меня как раз на ближайший час были планы. Боже мой, что я за доверчивый идиот!
Стекло психанет, а машина, в приступе вины и отчаяния, сверзнется, наконец… И – в хлам! Замечу, что «наконец» – это не оговорка и не случайное слово. Я в самом деле подумал, что лучше бы ей упасть поскорее и перестать свою судьбу искушать, чужую мучить. Заодно и я успокоюсь. Не дело это – железкам заставлять людей до такой степени нервничать. Если не на машину копить. Или в кредит ее оформлять.
Мне с трудом удалось отвернуться от притягивающего взгляд зрелища. Но даже сосредоточившись на какой-то фигне, я телом чувствовал, как красная машина все мечется и мечется, неистовая. Это чудовищно мешало собраться с мыслями. Трудно бывает собраться с мыслями, когда за спиной война и немцы.
Мама несколько театрально всплеснула руками и так же обреченно вздохнула, такая милая череда эмоций. «Ванечка, я же учила тебя абстрагироваться». Мама, когда хочет испытать меня, говорит, сложив губы трубочкой. Будто через соломинку. Покрупнее, конечно, коктейльной. В ее речи сразу появляется необычная, уничижительная «утиность», каковая и вмерзшего мамонта выведет из себя. Только не меня. Я селезень ученый и не летаю там, где живут охотники.
Шум сразу стих, хотя я был готов голову прозакладывать, что красный автомобильчик продолжает метаться туда-сюда. И был прав. Перемещения его стали еще хаотичнее. Я подумал, что он ищет утраченный звук. А возможно, мне показалось, так странно подействовала враз обеззвученная суета.
В общем и целом, автомобиль напоминал тяжело контуженного взрывом бойца из киноленты о войне. Бойца, которому никак не удается прийти в себя. Никак не выходит у него взять в толк: где он, кто и почему мир вокруг безмолвствует? Вдруг… Вдруг вспомнилось, что перед тем, как отрядить грузовик неприятелю, я считал его пожарной машиной. Конечно же из-за цвета. Помню, даже подрался во дворе, когда не нашелся, как прояснить безобидный вопрос: «А куда же вставлять пожарный шланг?» Что, если именно после той потасовки грузовик был мною разжалован, переведен во вражий гараж? Так скорее всего и было. Ни капли сомнений – это он был во всем виноват. Куда, спрашивается, вставлять шланг?! Раз некуда, значит ты – обычный грузовик. Никакого тебе почета и уважения. Тем более что весь мой небогатый запас почета и уважения расходовался в те годы на пожарных. На машины, равно как на людей. Они были моей детской страстью.
Когда-то в школьные годы я задумал писать сочинение о пожарных, любил вольные темы. Решил заранее подготовиться, потренироваться. Набросал с пяток страниц, все мне понравились. А моей репетиторше по русскому, «старой ведьме», неосторожно взявшейся подготовить недоросля к выпускным и вступительным, – категорически нет. Как она орала на гордого собой автора! Эта дивная женщина редко скромничала по части громкости, с какой выражала чувства. Не толстая каланча – рослая, корпулентная дама. Иерихонская труба. С выбором слов также не церемонилась.
– Что за говённый, ублюдочный язык?! Кто так пишет?! Кто так говорит?! Сплошная казёнщина. Души – шмель отрыгнул! И вообще хуйня полная!
Впечатлившую мой юный мозг тираду наставница поддержала завидно увесистой оплеухой. Позже я проникся чувством признательности к такой комбинации воспитательных методов – слово и действие. Доходчивость предъявляемых к моему слогу требований становилась просто феноменальной. Я и в тот раз внял. Факт. Больше того, покаянно признал:
– Вы правы, Зинаида Викентьевна, хуйня!
И заработал еще один подзатыльник с последующим комментарием.
Зинаида Викентьевна ненавидела повторяться и на сей раз сменила последовательность педагогических практик – начала с действия. Ну а комментарий…
Комментарий, я решил, правильнее всего тут же забыть. Так и поступил. Понимал, что такой текст в жизни не повторю. Куража не хватит. Дыхания тоже. Из Гнесинского далеко не все с такой дыхалкой выходят. Зато прапорщики, говорят, и на большее способны. Причем все как один.
Не могу предположить, что бы делала моя репетиторша с ее нетривиальными манерами в нынешние фарисейские времена. Может и хорошо, что не довелось ей дожить до того, как простое, естественное, человеческое сдалось без боя модному, искусственному, политическому. А сама политика сперва стала «складывающейся», потом и вовсе превратилась в «спохватывающуюся». Словно роженица, у которой уже и воды отошли, а она вдруг вспомнила о ползунках, коляске, кроватке, имя выбрать… Раньше как-то в голову не приходило. Зато погремушек полон шкаф!
Наверное, зарабатывала бы Зинаида Викентьевна на штрафы да пописывала в социальные сети, что запрет ненормативной лексики – чудовищная глупость и несправедливость. Прежде всего, потому, что в итоге масса каждодневных явлений в нашей обыденной жизни оказывается неназванной. И пописывала бы все больше матом. Из чистого негодования и упрямства.
В вербальных позах Зинаиды Викентьевны всегда сквозил эпатаж. Неприятие ханженства, нежелание угодничать перед временем и теми, кто полагал себя олицетворением этого времени. Моя милая «старая ведьма» прекрасно владела бесконечным инструментарием родного языка. Она всяко могла описать что угодно, в том числе и происходящее вокруг нас, вполне себе литературно. Правда, не уверен, что сейчас ей бы хватило всего «могучего и прекрасного». Мне порой не хватает слов, а им в свою очередь – вескости, разящей точности и красок.
В ответ на самые неробкие, однако аккуратные упреки моей мамы, до которой без всяких чудес доносилось пикантное эхо наших «баталий», Зинаида Викентьевна по обыкновению нервно закуривала. При этом она рассыпала по скатерти табачные крошки, тут же судорожно их смахивала. На ткани оставались заметные желтые тропки. Эта неопрятность взвинчивала ее до негодующих восклицаний. Ну не на себя же злиться за свинство на скатерти? Мне по крайней мере это было понятно.
– А как прикажете быть с эмоцией?! Как еще назвать эту его хуйню, если она хуйня и есть? Ну извините… То, что… ваш недоросль наваял! Галиматьей? Это, милочка, не галиматья! Это как я сказала. Не бойтесь, не скажу. Причем первостатейная! И уж простите старую дуру, переучиваться мне поздновато. Так-то. К тому же во дворе мальчик и не такое слышит. Поверьте моему опыту: ваш Иван и сам при случае не преминет козырнуть крепким словцом. Странно, если это не так. Он с девочками дружит? Впрочем, мне-то какое дело… Влезла, старая кошелка, не в свое… Правда, знающие люди говорят, что одно с другим вместе – симптом. То есть излишняя обходительность в речи и дружба исключительно с мальчиками. Вообще, не это важно. Главное, чтобы к месту. И в тему. Но они ведь, бестолочи, этого не умеют. Впрочем, я никому в репетиторы не навязывалась и не навязываюсь. Ваше право решать.
Завидная доля сына очаровывать дворовую шпану к месту ввернутым крепким словцом маму, конечно же, привлекала не в той степени, на какую было рассчитано. Далеко не так, как меня. В то же время упорство предшественницы, мастерицы художественного слова Зинаиды Викентьевны истончилось быстрее носок, если бегать в них по асфальту без обуви. Зинаида же свет Викентьевна ни разу не заикнулась о том, чтобы оставить позиции. При том, что я их бомбил нещадно, гранатами забрасывал и газы пускал. Больше того, мама заметила, что письменность моя стала сближаться с общепринятой. Я перестал отстаивать право устанавливать толщину стекла количеством «н» в слове «стеклянный». Прогресс был отмечен и учителями. В школе о таких, как я, охламонах пустое бы говорить не стали. Дело сказали.
Еще мама знала, что без репетиторской прибавки к пенсии «старой ведьме» нечего было бы пересылать дочке в Мурманск. Та лет десять назад умчалась в далекие края на институтскую практику и застряла. Примерзла. С неоконченным высшим, на пару с юным, еще не оперившимся рыбачком. А чтобы скучно не было – с двойней от него под сердцем. Счастливый отец дождался родов и первым делом сбегал с соответствующими бумагами в военкомат. Отметился, чтобы впредь в армейские жатвы не беспокоили. Ведь не абы как! Кормилец. Пацаны у него. Будущие солдаты. Годик покрутился туда-сюда, потом сгинул без следа. Не в море. Совершенно в другую сторону двинул. Соседка видела его на вокзале с «нездешней, приезжей» девицей. Видно, привычка такая у парня выработалась, или ген какой от рождения скособочен – когда только «нездешнее, приезжее» цепляет. Как «нездешнее-приезжее» «своим-местным» становится, так и интересу конец. Какое ни есть, а постоянство.
Надо сказать, брошенная жена мужу в постоянстве уступила немногим. Она тоже отличилась в деле верности протоптанным тропам. Вдогонку беглецу привела от него на свет еще одного мальчишку.
Зинаиду Викентьевну эта новость настигла по телефону и ожгла поперек сердца. Дар речи куда-то исчез, во рту пересохло, словно промокашку жевала. Дочь даже несколько раз дунула в трубку, решила, что связь прервалась. Тут же пожалела, что ошиблась со связью. Бабушка, сотрясая воздух, заметалась по комнате с телефонным аппаратом в руках. Хорошо, что провод был длинным, иначе обрыв был бы неминуем. Стены дома содрогнулись от ужаса. Никогда он не был так близок к разрушению. При том, что всех столичных градоначальников пережил.
– Чем ты думала?! Тебе сказать? Тогда слушай…
– Мама, не надо, нас разъединят, а я полчаса дозванивалась.
– Гады… И почему не обмолвилась ни словом? Ну, понятно, зачем вам, молодым, советы. Вы же сами с усами. Ты вообще в курсе, что есть такое слово «а-борт»?! Алевтина, Борис, Ольга…
Обессилев от гнева и невозможности что-либо исправить, Зинаида Викентьевна рухнула в кресло, судорожно пытаясь собраться с мыслями. Может и хорошо, что мысли все разбегались и разбегались – слишком мрачным бы получился букет. Сплошь черные цветы, каких в природе не встретишь, потому все они растут и распускаются в жизни.
Только теперь дочь смогла пробиться к материнскому уху с чем-то большим намека на чужие уши на линии:
– Ты прости меня, мама, но я, ей-богу, так намаялась, что, когда… когда спохватилась… – поздно уже было. Ты все учила меня, наставляла: это не твое, то не твое… Может быть, детей растить – это и есть мое. Славкой назвала, в память о папе.
«Дура! Дура! Какая безответственная дура! Это в наши-то времена троих… Без отца… Шла бы в детсад воспитательницей, если призвание… Как их поднимать? На что?»
Зинаида Викентьевна вдохнула поглубже, чтобы на одном дыхании выдать все это в эфир, но тут телефонная связь одарила заслуженной передышкой и себя, и мать с дочерью. Прервалась. Техническое несовершенство, притворившееся чувством такта.
Как минимум один абонент расценил происшествие совершенно иначе, о чем не преминул известить замолчавшую трубку. Телефонный аппарат был черного цвета и поэтому краснел незаметно.
Зинаида Викентьевна почти стерла телефонным диском палец, а словами – язык, когда в трубке послышался голос подруги дочери, у самой дочери в съемном жилье телефона не было. Пожилая женщина вдруг обмерла: «Что же я делаю!? Ору на дочь, идиотка, а у нее в соседнем подъезде трое, мал мала меньше. За ними смотреть надо, кормить. Наверняка уже домой убежала… Совсем у меня мозги проржавели…» Но после короткого обмена любезностями с незнакомкой на другом конце линии дочь взяла трубку.
– Прости, мама, – начала с повторения. – Знаю, что дура самонадеянная, но у меня другого выхода нет. Как только подбадривать себя. Паниковать мне никак нельзя. Да и какой от паники толк?
– Доченька… Родная моя, это ты меня прости. Ум за разум заходит, вот и говорю всякую ерунду. Справимся. Я подсоблю, чем смогу. И Славка… – это ты молодец. За квартиру когда вносить? Через два месяца? Ну вот видишь, есть время… Целуй свою мелочевку. Это кто там такой у нас расплакался? Ты смотри не застуди его, одевай потеплее, и теплое молоко с медом на ночь…
Теперь дочь, надрываясь, тащила на себе троих огольцов, а Зинаида Викентьевна – всё их благородное семейство, то есть четверых.
По правде сказать, я не думал, что мама примет участие в непростой судьбе малознакомой женщины и ее незнакомой родни. И просить бы за нее не стал. Не из эгоизма, а из подходящего моменту и возрасту понимания справедливости: если кто-то мучит тебя – пусть тоже помучается. Поэтому не сразу сообразил, отчего так загадочно улыбалась мама, когда Зинаида Викентьевна пересказывала дочкину историю о весьма странном происшествии, случившемся в семействе ее «мурманчан».
Я в тот момент заглянул на кухню отпроситься в кино, влезать в разговор остерегся и непривычно долго благовоспитанно выжидал.
Якобы к дочке «старой ведьмы» и ее внукам подселился волнистый попугайчик. Объявился он совершенно диковинным образом: окна заклеены, за окном низкий минус, в дверь тоже птица не влетала, ее бы заметили. Как в доме попугай оказался – так и осталось загадкой. Однако живая тварь, не морок какой, из ниоткуда взяться не мог.
– И вот, душа моя, – повествовала Зинаида Викентьевна, – странная оказалась птичка. С причудами. Все время в человеческие глаза норовит заглянуть, а у самой глазки-бусинки грустные-грустные. И головенкой маленькой своей кивает, кивает. Вроде как извиняется, прощение за что-то вымаливает. Толку от нее никакого, скорее наоборот, тоже кормить приходится, а зажилось, дочка пишет, легче. И дети души в новом друге не чают. Может, и в самом деле закончится однажды их беспросветное невезенье? Да и мои мучения на стариковские-то колени.
Тут она со вздохом недвусмысленно посмотрела на меня. «Ну?» – читалось в ее взгляде. Я оценил деликатность, тем более что на сеанс успевал только-только, задал волновавший вопрос и с легкостью был отпущен. За спиной, пока обувался да в рукава куртки руки просовывал, слышал:
– Вы даже представить себе не можете, как хочется просто побыть старухой. Попугайчик… Господи, и в кого она такая блаженная?
«Наверное, в отца, – подумал я, закрывая за собой дверь. – Не в мать».
В день оплаты бесценных услуг репетиторши мама привычно подкладывала в конверт «старой ведьмы» еще пару купюр среднего достоинства. За дополнительные, так сказать, нервы. С моими издержками никто не считался. Думаю, что мама подбрасывала Зинаиде Викентьевне деньжат на содержание рыбачка-попугайчика. Возвратился ли блудный муж и папаня в привычном обличии, не «попугайском»? Был ли «несправедливо» прощен? Или схарчили его с перьями голодные северные коты, что, на мой взгляд, было бы правильно? Все это осталось вдали от моих интересов, то есть неведомо. После наших общих мытарств с репетиторством Зинаиду Викентьевну я больше не видел. Проще простого было у мамы полюбопытствовать: как сложилась судьба далекого многочисленного семейства, но куда там! Какое нам дело до чужих горестей, когда у самих годовые контрольные?!
Совсем иные расклады сегодня: экзамен сдан, Пал Палыч счастлив. Мама? С мамой… уладим. Не забыть спросить про попугайчика.
«Не забудь с мамой… уладить».
Встречать «старую ведьму» я больше не встречал, не довелось, а вот вспоминать добрым словом – вспоминал не раз. Во-первых, во дворе прибавил в авторитете, «чувство языка» появилось. Не частил с матерком, ругался с толком, исключительно по делу. «В масть», как говорили сведущие в таких делах люди. Во-вторых, за сочинение, переосмысленное и переработанное под чутким присмотром и немилосердной рукой, мне в конечном итоге поставили пять. Это притом, что обычно за выбор «свободной» темы в школе один балл отбирали. Чернильные слезы по утопшей Муму обыкновенно ценились дороже, чем «В жизни всегда есть место подвигу» и отчаянный героизм неизвестных высокой отечественной литературе пожарных. Честное слово, не припомню таких книг, только пожары на ум приходят. Оно и понятно: страна столько веков была деревянной… Привычно горели, труд пожарных – рутина, а герои рутинны – это как? Теперь вот рубль, однако, горит.
К слову… Муму, по сути, прекрасно укладывалась в «свободную» тему о героизме. Ибо совершила бессловесная животинка истинный подвиг. Подвиг смирения. Я бы на ее месте Герасиму руки по локоть отгрыз, а потом за всех остальных принялся. Вплоть до автора. Только представьте себе сюжетец: в меня, дворнягу убогую, в конце, стреляют, как в льва-людоеда. Вот она, настоящая жизнь без прикрас. Однако свое истинное отношение к тургеневским персонажам я от школьного педагога скрыл. От внеклассного тоже. И, как уже говорилось, добросовестно описал самоотверженность огнеборцев. Слово не из того времени. Одноименного сериала было еще ждать и ждать. Страна жила «Государственной границей», «Долгой дорогой в дюнах». Долго куда-то шла… Возможно, через дюны к границе. Или я путаю время? В любом случае не ощущения от страны.
Помню, в двух местах сочинения написал «прожарники». Потом исправил, но слово понравилось. Гораздо позже мне стала слышаться в нем несколько извращенная двусмысленность, однако же похвала: «Well done!» Нет, определенно похвала, никакого намека на степень прожарки.
– В пяти местах, Ванечка, в пяти предложениях фигурировали твои прожарники. А исправить ты удосужился только в двух. И вообще буква «р» у тебя чудеса сплошные творила в тексте. Сейчас вспомню…
– Мамуль, ты шутишь?
– Ну конечно, у меня и дел других нет. Вот… «Проказалось» вместо «показалось». Неужели не помнишь?
– Что-то такое припоминаю… Но ведь это все не случайно. Наверное, я специально написал… как написал. Потому что задумал так. И слово это особенное. Означало оно… Оно и сейчас актуально для тех, кто понимает родную речь, а не мучается придирчивостью и занудством…
– Ну? Уже придумал, как будешь выкручиваться?
– А я и не собираюсь выкручиваться. Привнесенная в слово буковка – это лишь дополнительный оттенок мимолетности. Как касание крыла бабочки. Пролетело… Улавливаешь? «Проказалось»… И уже больше не кажется. «Проказалось»… Неужели не чувствуешь? Это же так просто и ясно! Как, «покатилось» и «прокатилось». Ну же, не прикидывайся! И вообще, доложу тебе, горячо любимая моя матушка, передача на откуп словесниками всех прав на родной русский язык в высшей степени сомнительна. Больше того – определенно несправедлива и даже ущербна!
Указательный палец сам вздыбился и потянул за собой всю руку.
– Ты никак в политике решил себя попробовать?
– Да ну тебя, скажешь тоже. Какой из меня политик?
– Словоблуд из тебя отменный. А что ты скажешь про слово «брандспойт», в котором налепил целых четыре ошибки?
– Ладно тебе… Как же тогда пятерку поставили?
– По счастливой случайности, сынок. По удачному совпадению. Некоторых родителей, видишь ли, привлекли в помощь словеснику. Зашивалась ваша русичка, не успевала проверить работы к сроку.
– По счастливому, говоришь, совпадению?
– Конечно же, по счастливому, Ванечка. Каким же ему быть прикажешь, если при таком количестве огрех пятерку поставили? Даже Зинаида Викентьевна не хотела верить в такое счастье.
– Ты хочешь сказать, что исправляла ошибки в моем сочинении?
– Чудак-человек. Сам посуди: кто бы мне его дал? Сама учительница исправила. И оценила исправленное по достоинству.
– При чем тогда привлеченная к проверке группа родителей?
– Но ведь это же правда. Так и было, привлекали. Зачем правдой манкировать?
– Да-а, умеешь ты тень на плетень навести. Вот так сшелушилась с моей биографии гордость за раннюю грамотность.
– Как сухая шкурка с обгоревшего носа. Безболезненно.
– Если не ковырять, то, наверное, безболезненно.
– Вот только не надо, Ванечка, ковырять. И прикидываться исполосованным материнской предвзятостью тоже ни к чему.
– Как ты произнесла-то все это? Помнишь, что по поводу таких изысков говаривала дражайшая Зинаида Викентьевна? Кстати, о Зинаиде… А что попугайчик? Волнистый. Ну тот, залетный? Мурманский? Давно собирался спросить… Да нет, вру, только сейчас вспомнил. Я ведь тогда правильно угадал про попугайчика-рыбачка. Это не вопрос. Он потом что, как «царь жаб», «царевна-лягушка наоборот», в добра молодца обратился?
– Помнится, Зинаида Викентьевна говорила, что пропал попугайчик. Вроде как в форточку выпорхнул и затерялся в городе. Дети рыдали. Но жизнь ведь и утешить умеет, если кто достоин. Пропавший муж, детям отец объявился, Зинаиды Викентьевны зять. С повинной прибыл. И не один, с полугодовалой девочкой. Бросила рыбачка дамочка. С тем, что прижила от него, и бросила непутевого.
– Поделом.
– Поделом.
– Вскоре, стесняюсь уточнить, после исчезновения попугайчика объявился? След в след за пропажей птички? Попка за дверь – рыбачок в дверь, ведь так было дело? Опять же исключительно по счастливому совпадению.
– Не вижу повода для иронии, у людей семья наладилась. Что же до совпадений или несовпадений по времени…Часовые пояса, кстати, разнятся… Очень некстати… Откуда мне знать такие подробности, Ванечка? Может, и по счастливому. А возможно, что с птичкой хлопот меньше было, теперь все жалеют… Зинаиде Викентьевне денег нужно было занять: на билет у нее накопленного хватило, а на подарки внукам сущие крохи остались. Вот она и поделилась. Не поделилась даже, а обмолвилась вскользь. Совсем вскользь, как твое «проказалось». Это чтобы ты лучше понимал, о чем я. А может быть, счастливы мурманчане… Случается, что берет Всевышний несчастные судьбы в свои…
– Ладошки…
– Как-то так, Ванечка, как-то так.
«В ладошки».
В мамином доме всегда так: она мысленно произносит «В ладошки…», иногда мне кажется, что я слышу эти слова наяву, и тут же чувствую, как натруженные подмокшей обовью ноги укутывает сухое и теплое. И весь я, уже с головой, нежусь в удивительном уютном логове. Словно заполз в большой вывязанный по росту мохеровый носок и пристроил промерзшее седалище в пятку – так все удачно западает!
Настоящий перформанс мог бы получиться из этого образа. К примеру, на какой-нибудь биеннале современного искусства. Лучше в Венеции, там в ноябре довольно-таки сыро, а значит, и сердца людские скорее откликнутся.
Я в носке, слегка подваниваю от перегрева и переживаний. Само собой, в центре всеобщего интереса. Рассматриваю восхищенную публику сквозь редкую вязку и мечтаю не расчихаться из-за мохера. Он повсюду лезет со своим: «Это благодаря мне! Мне!» И все норовит в нос, в нос попасть. Вот-вот чихну, но тогда выйдет, что прав он, проныра: это благодаря ему. Черта с два! Терплю. Чума, как все непросто…
«Интересно, он в памперсе?» – беззлобно, хотя и с подначкой интересуется кто-то в толпе. Что за дурацкий вопрос? Я такие вопросы не одобряю. Впрочем, мысль не лишена здравого смысла…
– Мама, я пойду руки помою.
– Можно не спрашивать. Кстати, биеннале в Венеции в этом году откроется в первых числах июня. Пока ты в носке до сырости и холодов досидишь, – совсем спаришься. И вообще, по части темы, это будет скорее архитектурная история, чем домоводческая.
– Домоводческая? Ну да, вязание… Не сразу и сообразишь. Забытое слово. Спасибо, что просветила. А вот за другое – совсем даже не спасибо. Или это не ты была, с кем я договорился, что раз в году, в мой день рождения…
– Ну, прости, прости, не утерпела. Уж очень симпатичный образ у тебя вышел.
– Не подлизывайся.
– Иди мой руки, творец без памперса.
Ступни еще гудят, словно взвешивают: «А не вспухнуть ли нам парой свежих мозолей?» Другой способ подтолкнуть хозяина к смене обуви на более удобную им недоступен. Воображение у ступней убого, придавлено. Затоптанное, словом, воображение. Я знаю, что они не всерьез, просто пугают. Кому охота самим себе болячку «наколдовать»? Пусть и аукнется она, в конечном итоге, мне всему, целиком. Хотя и то сказать – ступни… Они на любую глупость способны, слишком удалены от головы. Особенно в моем случае. Я о росте. Сто девяносто и еще один.
«И не думайте!» – предостерегаю на всякий случай.
Гул-зуд будто тумблером выключает. Мне не надо угадывать, кому именно я обязан такой роскошью. На этот раз я не буду капризничать по поводу подслушивания и подглядывания за моими мыслями. При том, что именно сегодня исключительный, запрещенный для ментальных вторжений в мою жизнь день. Не помню, чтобы хоть раз уговор сработал, даже попыток соблюсти его известной стороной не припоминаю. Ну, хоть разговариваем в этот день больше вслух, по внешней, так сказать, линии. Потому что рядом. И на том спасибо. С ногами вовремя послабление вышло… Как тут обиды дурацкие предъявлять? Глупо. Какой же я все-таки приспособленец.
«Эк, я себя хлёстко, а ты молчишь. Ноги, надо полагать, само по себе отпустило? Я так должен думать? Хорошо, уже думаю. Наверное, и в самом деле случаются такие совпадения. Всё равно спасибо».
«Конечно, бывают совпадения, как без них. Полотенце свежее справа. Крем для рук возьми, отлично впитывается, и без запаха, как ты любишь».
– Господи, как же у тебя хорошо, – мурлычу, вновь устраиваясь напротив хозяйки жилища за кухонным столом.
Ноги у меня длинные, я подбираю их поглубже под стул, чтобы не мешать маме. Заодно выпрямляю спину, не дожидаясь привычного: «Не сутулься, пожалуйста, Ванечка». По той же причине: «Ну, что ты угрюмый такой?» – распускаю складки над переносицей и слегка растягиваю губы, рассчитывая получить в результате милую полуулыбку. Трогательно – вот как должна выглядеть эта гримаска. Впрочем, главное, чтобы не бýкой, как привык.
Увы, задуманное и исполненное в моей жизни не сильно дружат. Иногда они даже не знакомы. По этой причине на результат я особо не уповаю. Подозреваю, что выгляжу курьезно – эдакий погрязший во второгодничестве школяр-переросток на разборе полетов в директорском кабинете. Подтянутый, с уважительно выпрямленной спиной, однако в то же время скрытно-нагловатый. Точно знает, стервец, что на улицу с позором его не выставят. Нет такого закона, чтобы вышвыривать олухов недоучками. Да и привык уже к выволочкам.
Мама следит за моими стараниями оценивающе: чуть насмешливо глаза прищурила, губы сложила трубочкой. Дядя Гоша очень смешно ее такую копирует. При всех глобальных, можно сказать, с мамой различиях, у него выходит похоже. Наверное, правильно уловил настроение. Хотя Дядя Гоша и правильность, пусть даже в таких пустяках, как передразнивание, видятся весьма эксцентричной парочкой.
Мне вдруг совершенно с бухты-барахты приходит в голову, что если мама сейчас дунет легонько в мою сторону, то в следующее мгновение я могу очутиться где угодно. Хоть в Гималаях. При том, что обувь еще до конца не просохла.
– Ох ты и чудила, Ванечка, ну какие Гималаи?! Обувь, кстати, давно высушена, начищена и пропитана от промокания. Это ты мог бы и сам организовать. Не смотри на меня так, никакого подвоха, ни к чему я тебя не склоняю. Ни к чему, кроме опрятности и внимательного отношения к вещам. Мог бы поработать руками. Щетка, вакса… Есть такой способ ухода за обувью. Не слышал?
– Мам, ты ведь какая настырная… Так я и поверил про щетку с ваксой. Щетлок Холмс и доктор Ваксон. Что-то подсказывает мне – ты совсем другое имела в виду.
– Приучать детей к труду – родительский долг. И вспомнить об этом никогда не поздно, если… сильно задолжал.
– Не юли.
– Ну прости. Уж и не знаю, как так получилось, что снова зарок нарушила. Наверное, от расстройства, что ты такого дурного мнения обо мне, что слово не умею держать, и вообще… Не мать, а ехидна: единственное дитя на снег в мокрых чунях.
Ей смешно. Я знаю, что могу рассмеяться за компанию, могу отделиться в обиде, замкнуться, сложить лицо фигой… Это образно, но у меня иногда в самом деле выходит похоже. Ничего не переменится. Никогда. Я всю жизнь ее обожаю.
– Честное слово, я не хотела.
– А я прям, раз – и поверил!
Как сказал, так и вышло: раз – и поверил. В ту самую секунду.
– Всё, Ванечка, всё… Может быть, лучше в гостиную?
– Давай еще немного посидим на кухне. Ты же знаешь, я обожаю кухни.
– Сегодня твой день.
– Угу, я вижу.
– Ну что ты, право, такая колючка! Обещаю не слушать, не подслушивать, не смотреть, не подглядывать, не уговаривать.
– Не комментировать.
– Не комментировать. И вообще ни во что не вмешиваться.
– Хотя бы один час.
– Что за жестокость?! За всю мою материнскую любовь… Целый час. Я не вынесу.
– Мамочка!
– Хорошо-хорошо, я постараюсь.
Конечно, мама, как всегда, права, в гостиной было бы удобнее. Там можно зарыться в подушки ушастого кресла и выступать из его баюкающего нутра горельефом.
«Посмотрите налево. Человек двадцать первого века – расслабленный и вальяжный. Работа одного известного автора».
А должны быть два автора. Непременно их должно быть двое. Нет, не сегодня. Однажды. Когда время придет.
Из кресла можно лениво, рассеянно разглядывать разнородную жизнь за гигантскими арками окон. Они от пола до потолка, шесть метров в высоту. И в ширину ненамного меньше. Окна расположены на трех стенах, всего их четырнадцать, окон разумеется. По пять слева и справа, четыре – в торце. Первое впечатление от гостиной – обставленная мебелью бальная зала. Впрочем, и сейчас, несмотря на обстановку, свободных пространств хватило бы для дюжины безоглядно вальсирующих пар.
Но не только открывающееся взглядам неожиданное для заурядной многоэтажки пространство обычно наповал разит наших гостей, вынуждая даже героических биографий мужей застывать на пороге, инстинктивно подаваться назад. Будто резкий порыв ветра воспрепятствовал им сделать шаг. О дамах и говорить нечего. Дамы отшатываются нервно и суетливо. На долю секунды они теряют возвышающий лоск. Однако коварство не дремлет – природа! – и ситуация опять под контролем: прелестницы начинают картинно, художественно оседать, «ну же, подхватывайте нас!». Но только в том случае оседают, если убеждены, что кавалер на месте и он не «зевнет». Если же за спиной ощутима растерянность, то хищные шпильки изящных туфелек азартно впиваются в ноги своих мужчин, в других обстоятельствах – проверено – расторопных, вполне надежных и даже самоотверженных. Звуковая дорожка – женские вскрики, сдержанные мужские стоны, тягостное сопение под аккомпанемент зубного скрежета: «Твою мать… Мало того, что на голову меня выше, так еще и эти гвозди…»
Если тяготеть к мазохизму, то со стороны это короткое одноактное действие выглядит и звучит весьма эротично.
Вид из торцевых окон способен ошеломить любого. Шутка ли – самая крайняя точка, срез площадки, с которой свешивает свой длинный язык лыжный трамплин, что на Воробьевых горах. Сам трамплин, к слову сказать, не виден. По логике, он должен быть под полом гостиной, за парадной входной дверью, в прихожей, на лестничной клетке… До чего скучна эта логика! По радио, как по заказу, звучит старорежимный шлягер про друга, которого никогда не забудут, если с ним подружились в Москве. Наверное, где-то существует таблица «Минус друг», построенная по принципу зависимости длительности дружбы от места ее начала. Москва – никогда не забудут, вечный друг. Питер – лет двадцать, Сочи – пять, Владивосток – семь… Почему семь? А почему Москва дарит дружбе вечность? Не самый, надо сказать, щедрый на дары город. Просто слова. Хочешь вдумчивых слов? Чтобы набираться ума? Читай стихи, хорошие книги. Можно слушать слова под музыку и… набираться. Для таких дел у меня в фаворитах «Аквариум». Признаю, это несколько странно для моего возраста. Возможно, я родился намного раньше, чем записано в метрике, но какое-то время не замечал, что живу.
Глубоко внизу искрится Москва-река с неспешно курсирующими белыми катерами. Отсюда вода обманчиво кажется глубокой и чистой. За рекой Лужники и вся бесконечная красавица Москва.
По левую от Москвы руку за окнами панорама с верхней точки Аю-Даг, Медведь-горы. Поразительно, но я не припомню случая чьего-либо вслух высказанного недоумения: как такое возможно? Вероятно, такая естественная эмоция захлебывалась в растерянности, порождаемой видом справа. Там Нева, впитавшая серый цвет неба. Ажурный, слово собранный из женских заколок-расчесок Троицкий мост. Дворцовая набережная, щербатая в месте впадения Зимней канавки. Адмиралтейская набережная, а в глубине – громоздкий купол Исаакия. Где-то там невидимая, но неизбежная, как геморрой при сидячей работе, пробка на въезде в Конногвардейский. Чадит, сигналит, треплет нервы. От сидения в пробках эта напасть, геморрой, тоже запросто может приключиться.
Это касается любых пробок, не только автомобильных. Я, к примеру, доподлинно (вот же дворник, зараза, одарил словцом) знаю о том, что духи винных пробок подвержены этой напасти. Они заперты внутри примитивных затычек и изнывают от человеконенавистничества. Известный симптом среди геморроидальной публики. Мучают духи пробок неподатливостью сжигаемых изнутри страдальцев. Гнут, негодяи, штопоры, ломают карандаши. Пропускают сквозь себя жало отверток, что никак не решает проблему вскрытия тары, зато мусорит крошкой в ее содержимое. До распухших фаланг сопротивляются непослушным пальцам, которые раньше и не подозревали, что ближайшая их родня – до-ло-то! Короче говоря, из-за духов пробок банальный как детский понос процесс превращается во взлом сейфа с несколькими степенями защиты и негарантированным успехом. Злобные тролли! А если, не дай бог, матери, жены и дети оказываются в миг противостояния на их стороне? Духи пробок дивно падки на любого рода союзничество. Тогда… Простите, но это уже совсем о другом.
В Питере мы обычно на шпиле Петропавловской крепости. Ангел и крест, должно быть, где-то над нами. Запавшее в память сообщение бесспорно знающего и столь же нудного гида о том, что конструкция весит не менее четверти тонны, временами заставляет меня безосновательно волноваться. Все остальные гости, за исключением мамы, сильно переживают и без этого знания.
После экскурсии всезнайка-гид отвел меня под локоть в сторону и сказал:
– Вы очень впечатлительный молодой человек и, что отрадно, интересующийся. Вы бы очень неплохо смотрелись в нашей профессии.
Так и сказал: «Вы бы очень неплохо смотрелись…»
При такой невнятной оценке я бы и от участия в дефиле отказался.
– Спасибо, у меня уже есть, – ответил я столь же нелепо. Представлял себя в образе «брюки превращаются…» В итоге заслужил ободряющую улыбку.
Мое предположение, что нелепость ответов несвойственна самим жителям этого города, но, очевидно, умиляет их, нашло подтверждение. Так пожилые родители умиляются чуши, которую несут их чада в часы познания мира. Они верят, что всегда будут знать этот мир лучше. Несчастные.
Моя мама, сколько я ее знаю, всегда была неравнодушна к Питеру и ко всему питерскому. Бог свидетель, не к тому питерскому, хладнокровному, алчному, что Москва получила надолго в виде обременения. Обременения, по которому еще платить и платить. К другому. К тому, что так и осталось на севере, южнее не рвется, для страны вполне безобидно. Это ее слова.
Однако и тут не все так просто, надо знать мою маму. Например, памятник Ленину близ Финляндского вокзала ей активно не нравится. Гид назвал этот вырост из асфальта скульптурной композицией «Ленин говорит с…».
Поделюсь тайной. Мама трижды практиковала подменять броневик грудами беспорядочно наваленных тел. Затем эту зловещую кучу-малу сменил приплюснутый, изуродованный земной шар. Позже Маркс с Энгельсом не остались обойденными пристальным женским вниманием. В пылу творческой несдержанности она заставила эту двоицу подпирать подошвы ленинских ботинок. Два вождя держали третьего на вытянутых над головами руках. Ленинская обувь в маркс-энгельских ладонях. Небольшая такая пирамидка. Уличные акробаты. Кстати, боюсь соврать, но, по-моему, это было связано с нашим походом в цирк. Впечатлилась матушка.
Более рослый Энгельс заметно страдал, потому что ему приходилось чуть сгибать ноги в коленях, и в таком положении выдерживать пусть незначительный физический ленинский вес было куда сложнее. Маркс на его счет ехидничал:
«Это вам, мой друг, в наказание. Не сомневаюсь: вам известна причина. Искренне надеюсь, что вам сейчас не легко… Искренне ваш…»
Ну и так далее. Он недвусмысленно намекал на запись, однажды оставленную Фридрихом в дневнике дочери Карла – Дженни. Дженни, а может быть и не Дженни вовсе, а кто-то совсем другой выдумал некую анкету. В ней, среди прочих, был вопрос о главном принципе и любимом девизе. Господин Энгельс на этот счет не преминул письменно заметить: «Не иметь такового и относиться ко всему легко. Искренне ваш Фридрих».
Сейчас, стоя под Лениным, он сильно жалел о своей игривости и легкомыслии. Однако же признаваться в этом товарищу было не с руки. Ни с одной, обе были заняты. Поэтому он ворчал, пеняя Карлу на чьи-то украденные кораллы и неутешное горе Клары… Понимал при этом, что из-за кораллов Кларе явно не стоит так убиваться – не бриллианты все же, не изумруды. Все проговаривал вслух.
А Владимир Ильич был весь захвачен ораторским порывом и дружеской пикировки у себя под ногами не замечал. В общем и целом, прелюбопытнейшая вышла у матушки композиция. Но вот беда: стоило только небесным силам плеснуть сверху на балтийские тучи из кувшина со светом, как памятник снова оказывался в своем первозданном, как задумали скульпторы, виде. А россказням приезжего люда, кто прибывал на вокзал ночью, петербуржцы не доверяли. Землякам, впрочем, тоже. Петербуржцы в большинстве своем вообще сторонятся политики и своих же в политику выдвиженцев.
Маму железно-каменное упрямство – это о памятнике – сильно расстраивало и наводило на странные мысли. Передумав их не по разу, она и вынесла малопонятный мне, неглубокому по части философий, вердикт:
– Что-то в нашей стране, Ванечка, не так, если ночью одна чертовщина, а днем – совершенно другая.
Вслед за выводом про чертовщину, или две разные чертовщины, если быть точным, памятник был оставлен в покое. Но вскоре из Мраморного дворца исчез броневик «Остин-Путиловец». При этом все, кому следовало бы удивиться и забить тревогу, не удивились и не забили, а подумали, что сами передали броневик в Артиллерийский музей. Кто знает, была ли это та самая машина, принявшая на себя вес вождя мирового пролетариата? Та, что по железной своей недалекости представления не имела, какая дикая катавасия вслед за этим начнется. Вот присказка есть: пуля, мол, дура. Не она одна дура среди смертоубийственного. Бронетехника вполне ей под стать. А штык – молодец! Все из той же присказки. Никогда не понимал, почему молодечество должно отрицать дурость.
Броневик, с которого выступал Владимир Ильич, если и в самом деле он вещал не с подножки вагона, был не серийным, а всего лишь опытным образцом. Местные сторонники Ленина под шумок увели его из мастерских Петроградского бронедивизиона. Странно было не заметить, что положенная верными ленинцами традиция «уводить под шумок» вполне себе среди питерцев прижилась. Как не было, так и нет перемен, что послужили бы им в этом деле помехой. Но безбоязненно расцвел этот промысел лишь в первой четверти века нынешнего, двадцать первого, став для многих настоящей иконой стиля.
Справедливости ради надо признать, что избранные обыватели других городов и сел не устрашились потягаться, помериться талантами с родоначальниками жанра. Некоторые по части безоглядности могли бы и фору заметную предложить. Но увы и ах… Масштабы не те. Резов конь, да выгул мал. Не помню, откуда это, хочется верить, что мое. «Хочется – обхохочется» – любимая присказка продавщицы из ближайшей к моему жилью продуктовой лавки. О чем это я? Ага… Короче, их день, похоже, наступит еще очень и очень не скоро. Вот и приходится людям тащить по мелочи из того, что оставлено на их попечение. Если по уму, то им, собственно, больше уже и не надо, однако страшно выйти из формы. Вдруг неожиданно часы пробьют нужное, а навык тю-тю! Кажется мне, что именно благодаря такой тактике и вере в стратегию путь нашей Родины понятен и предсказуем. Предсказуемость же – удивительное и редкое благо в наше непростое время. Чистое золото среди благ. Только зубы из него не вставишь, потому что они уже в другом рту. Так ведь и не современно это – золотые зубы. Форменный архаизм и дурновкусие.
Однако бегом назад к пропавшему броневику.
Заведующие шестидесяти шести пунктов приема металлолома, разбросанных по всей стране, в одночасье чуть с ума не сошли от восторга и предвкушения премий за перевыполнение квартальных планов.
Мама конечно же знала, что изъятая ею машина всего лишь копия. И то, как и откуда выступал вождь. Однако жажда действий взяла свое. Адреналин и азарт – чудовищный коктейль. Да… Вот еще что… Чуть вбок от темы. Меня глодали сомнения, что одна шестьдесят шестая пропавшего броневика способна потянуть на целый квартальный план пункта приемки металлолома. Я в уме пилил броневик и так, и эдак… Само по себе это действие сложное и в моем случае требует задействования всего ума. Поэтому весьма возможно, что в тот день я что-то другое упустил. Что-то важное. Это обидно. Так или иначе, с месячным планом я запутался как пьяный при надевании кальсон, но по газетам выходило, что в стране случился «металлоломный» бум. В итоге все же я догадался: в своем мессианском порыве моя мама размножила броневик. Выражаясь созвучно эпохе – клонировала его. Но… Виноват. Я непозволительно далеко ушел в сторону от описания переживаний маминых гостей при виде того, что открывалось их взглядам за окнами необычной гостиной. За что и прошу любезно меня извинить.
После первого потрясения в расписании вечера наступают бурные восторги. Гости бесстрашно кидаются к окнам, охают-ахают, вдыхают воздух по очереди из приоткрытых фрамуг и шумно обмениваются впечатлениями. Насколько разительно отличается теплый и терпкий, помеченный прелой рыбкой, водорослями и йодом черноморский ветерок от ветра солоноватого, перенасыщенного влагой и посулами затяжной простуды – с Балтики. Московская гарь обыкновенна и всем доверительно близка. Ни у кого, даже у совсем недавних москвичей, она интереса не вызывает. Разве что отыщется какой-нибудь обладатель тонкого климатологического знания и такого же политического чутья. Он-то и заметит, что именно над столицей в небесах сталкиваются воздушные массы с разных сторон света, в том числе с севера и юга. Затем веско затвердит главное: как это часто бывает с приятными ароматами, после перемешивания они превращаются в настоящую обонятельную какофонию!
«Вот же велеречивый пидераст», – помнится, подумал я, прежде чем мама успела одернуть:
«Стыдись, сын! Надо говорить: “Представитель сексуального меньшинства”. Даже “гомосексуалист” сегодня уже не канает, как определение, изжившее себя. Этим оно еще более оскорбительно для людей, чьи интересы затрагивает».
«Ты сказала “не канает”, так?» – поразился я так же мысленно.
«Именно так».
«Жесть».
Проверять теорию смешения ароматов охотников не нашлось. С бóльшей охотой побалагурили о давно минувшем, когда смешивали не ароматы, а вкусы, называя убойное пойло коктейлем «Сливочным». Мужчин тема сплотила, женщины чопорно их сторонились, то есть тоже сплачивались. Зато позже всем скопом публика принялась обсуждать, суждено ли только что сплывшей с петербургского неба тучке объявиться в высоком и звонком московском небе и как дальше сложится ее путь. Отъявленные смельчаки не чуралсь делать ставки на даты, когда следует ожидать тучку-путешественницу в Крыму. Мужской альянс, сцементированный воспоминаниями о приукрашенной безответственной молодости, выдержал тему, не распался. Заодно намекнул на общую посвященность в государственные секреты. Мужи совершенно отвязано перемигивались. Женское единение выстояло исключительно благодаря полускрытым насмешкам над мужскими играми: «Ну чисто дети!»
Углы нашей гостиной строго разграничивают открывающиеся из окон виды. Приблизишься к торцевому окну – больше станет Москвы, если нос вот-вот упрется в стекло, за окном вообще окажется только столица. Если неверно угадать расстояние, нос одарит стекло жирным пятном. На добрую память. Даже самые высокохудожественные носы редко бывают нежирными, «диетическими». Если без стеснения, неуважительно упереться носом в стекло над Москвой, то не увидишь ни Питер, ни Крым. Даже намека нет. Я недавно специально так постоял. Потом удалил салфеткой пятно. Верьте мне: глаза можно сколько угодно скашивать. До тех пор, пока не забоишься таким и остаться.
Раньше за окнами слева, там, где сейчас открываются горизонты с хребта Аю-Даг, царил вид с «зубцов» горы, названной в честь святого Петра – Ай-Петри. Настолько раньше, что вполне уместно уточнить те времена как «давным-давно». Ай-Петри – «святой Петр» по-гречески. Где-то внизу, между неприкаянными облаками угадывалась Алупка с Воронцовским дворцом, Мисхор… Дальше – море. Признаться, я совсем не уверен, что с одного и того же места можно одновременно лицезреть Мисхор, Алупку и даже край Ялты, его редко было видно, только в ясную погоду. Мама запросто могла «поиграть» с перспективой. Как-то раз, помнится, я полюбопытствовал: достоверная ли иллюзия за окном, или мама в самом деле вмешалась в пространство? Немного перекроила его под себя. Как художница: «Я так вижу». И что в таком случае случилось с людьми? В смысле, замечают они необычное? Вообще-то в большей степени меня в тот момент беспокоил аспект скорее этический: почему визуальные предпочтения и развлечения моей матушки должны сказываться на чужом житьё-бытьё? В тот день мы были в ссоре. Вот я, дурак, и «включил» блюстителя морали.