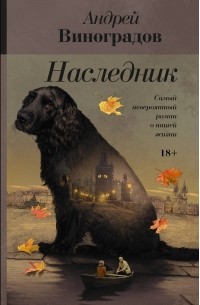Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
Глава 2. Пал Палыч и прочие разные
Я уже на месте. Всё как задумано – тик в тик, если верить часам в больничном коридоре. Часы в больницах особенные: для одних слишком медленные, кому-то – вскачь. Они всё про себя знают. И про всех тоже. Тем, кто им симпатичен, – подыгрывают, а некоторым намеренно портят жизнь. Особенно если «некоторые» жизнь не ценят.
Меня ждут. Это вне всяких сомнений – дверь к заведующему отделением приоткрыта. Или ждут не меня? Но ведь дверь приоткрыта навстречу именно мне. Никто не торопится просочиться в щель первым. Никто не возмущается в спину: «Гражданин, здесь живая очередь». Очередь и не может быть другой. А изгородь может. Что это я менжуюсь? Образ разносился? Великоват? Нет, не похоже, впору образ. Соберись. Сейчас время главного действия.
– Могу? – замираю на пороге кабинета, который может принадлежать хозяину небольшой фирмы. Мог бы, кабы не пугающие яркими красками картинки, демонстрирующие устройство человеческого тела и всевозможные поломки в этом устройстве.
– Заходите. Именно вас и жду.
Признал. Помнит. Главное действие должно начаться с самых важных слов. Я знаю, что они у доктора наготове.
– Нусс…
«Мусс, пусс, эпл джус… Эскулап, бросьте растрачиваться на звуки. Говорите прямо. Всё как есть».
– Говорите, доктор, говорите сразу всё как есть. Не томите. Молю.
И всё. Он говорит, как я прошу. Страшные слова сказаны. Вот так они их говорят – коротко, ясно, чётко. Никаких сюсюканий. Теперь всё в моей жизни станет иным, всё будет иначе. Вопрос – как надолго?
«Или – как набыстро?»
«Или как набыстро».
«И эпитафия: “Не очень смешно вышло. Скорее дураковато…”»
«Забавно».
«Дарю».
«Спасибо, мама».
Первое, что я ощущаю, выслушав грозный диагноз? Болезненное обострение слуха. Такого не ожидал. Я об обострении. А к чему-то был готов? Ну не знаю… К тому, что вспотею, что пульс вприпрыжку…
Какая-то неугомонная бестия бьётся в оконное стекло. Изнутри стремится наружу. Наверное, она полагает наивно, что снаружи, при минусе, ей станет лучше. И горячится. А там раз – и остынет. Еще звуки. Утяжеленные подклеенными газетами и давным-давно пересохшим клеем от стен отстают обои. Они потрескивают, как мошки в фонарях-ловушках. В геноциде мелкого летучего мира такие фонари настоящее торжество человеческой мысли. Человека – карателя. А что, если фамилия изобретателя – Мухин? И все его творчество лишь завуалированная склонность к суициду? Я вижу, как он, раздевшийся догола, отчаявшийся вспомнить, какая нога толчковая? – бросается на манящую ярко-голубым стену в надежде, что сейчас и его… Но это экран в караоке, а раздавшийся треск – нестройные аплодисменты. Нестройные и жиденькие. Такого в баре еще не видели, вот и растерялись. Вот теперь – настоящий «аплаус», взрослый. Пришли в себя, оценили. По достоинству оценили. Достоинство распаленного Мухина в самом деле заслуживает любых похвал. Ха-ха…
Да пошел ты, Мухин-не-мухин! Не до тебя сейчас! Тебе еще порушенную технику заведению возмещать, бармену платить за пережитый приступ неполноценности, полиции за все остальное всем что осталось… Тут обои, черт бы их побрал, трещат как оглашенные! Словно щепу в ушах ломают. Главное, чтобы не костер затевался.
Всё же обои в больнице – роскошь. Я бы отнес ее к непозволительной. Даже в кабинете заведующего отделением. Кого вдруг такая блажь посетила? Скорее всего, директор обойной фабрики лечился, вот и облагодетельствовал. Жив ли? Или отвалился, как его дары, от мира живых с тихим потрескиванием домочадцам про то, где что лежит, кому позвонить и кого не звать на поминки? Настоящий мужчина завсегда найдет способ жене наперед подгадить. Наверняка, в отказники попал самый обаятельный сослуживец. Возможно, разведенный или вдовец. Если, конечно, вступающая во вдовство мадам собой недурна. А если нет в ней привлекательности, то в доме откажут толстому весельчаку. Чтобы не балагурил, не тот повод. Кстати, правильно: так людям труднее скрывать радость от того, что свалил, наконец, этот жадный зануда. Ну надо же, его тут спасли, а он такую дешевку на стены!
Однажды обои опадут окончательно, как груди кормилицы, и выкрасит нетрезвый маляр здешнее обиталище докторов жирной, масляной, непременно плохо сохнущей жижей. Неважно, какого цвета. Вру, цвет важен. Цвет будет голубым. Потому что салатный – для пищеблоков, зеленый колер – для нужников, а охра… Охра – это по большому блату. Другими красками настоящие, завзятые маляры не работают. От белой их еще больше пьянит. Красная? С ней ничего мешать никак нельзя – вырвет. Хоть какого начальника по краскам заполучит лечебное заведение, все одно – выбирать придется из салатного, зеленого, голубого и, если повезет, охры.
Все же странно, это в старые времена с краской были проблемы, как и со всем прочим, бесконечен список былых дефицитов. Нынче, я уверен, в этой больнице пяток палат оккупирована публикой, для кого ремонт в отдельно взятом кабинете – сущий пустяк, безделица. За мифический шанс что хочешь устроят, да хоть англицкий клуб. А стены – вот они. Трещат. Но однажды… Однажды выкрасят тут все в голубое и я непременно прислонюсь к сырой, непросохшей стене. Спиной. Перед этим дюжину раз пробубню под нос с лету заученное предупреждение, наклеенное на дверь: «Осторожно, стены окрашены!». Потом отчего-то подумаю, что все давно высохло, просто забыли бумажку снять, потому что везде бардак. И запах краски меня не смутит, запах краски годами выветривается. Я однажды гаишникам то же самое про армянский коньяк говорил, но они не поверили. А я верю. И прислонюсь. Карма такая. Голубое пятно на джинсовой ткани худо-бедно можно перетерпеть – приветствую тебя, мотив цветовых предпочтений! – а салатного, тем более зеленого, у меня ничего нет. Разве что представления о мироздании. В смысле, не созревшие. Вот только что упало не вызревшее… из мозга. Из мозга на ум… А он занят. Чем? Тем, что вроде бы и есть я, а уже почти что и нет. Так доктор сказал. Прямо. Без обиняков. Как я просил. Выходит, что кому-то другому предстоит вывозиться в голубой масляной. Нет, не бывать этому!
Вот дрянь, обои… Держаться, я сказал!
Не думаю, что произнес хотя бы одно слово вслух, даже непреднамеренно, однако услышал в ответ:
«Поразительная глупость. Вот балда-то!»
Кто мог такое обо мне сказать? А то я не знаю. Хотя, в принципе, кто угодно мог, вокруг много умников. Обижаться смешно, глупо даже. Зачем подчеркивать нелепой обидой верность нелестной оценки? Следует по-сыновьи покорно принять пилюлю и согласиться: балда, балда и есть. Столько времени тянуть с походом в больницу! При том, что сердце-вещун ни на день не умолкало, хотя могло бы на денек и умолкнуть… Вот потеха… А я трусил, как последнее труслó. От страха, между прочим, мы все и мрем. А думаем, что от удали и бесшабашности. С другой стороны, про удаль и бесшабашность думать приятнее. «Балда, об удали…» Про бесшабашность у меня так не выходит, потому что большое слово. Большое, длинное, шире удали. Зато трусостью себя устыдил. По-моему, все очень натурально, что и следует отразить на лице – настоящие переживания: желваки, в глазах потерянность… И весь я потерянный, собой за неоправданную робость избичеванный… «А про “сердце-вещун” смешно вышло».
«Не надоело?»
«Нет пока. И вообще, мы же договаривались».
«Ну-ну, дерзай. На себя пеняй, если что».
«Если что?»
«Звонок другу? Помощь зала? Отказано».
«Значит, ничего страшного не предвидится».
«Поражаюсь твоему легкомыслию».
«Нет, чтобы оценить аналитический склад ума».
«Нет».
Доктор неторопливо выводит в моей характерно растрепанной и расхристанной «Истории болезни» скрипучие каракули. В моей – свои… В моей – свои…
«Сынок, тебя переклинило?»
«Ну, послушай…»
«Ладно, веселись, если это тебя веселит. Меня, например, расстраивает. И даже пугает. Твой выбор пугает».
«Мы же договорились».
«Ничего подобного. Мы не договаривались. Ты попросил».
«Пусть так. И ты пообещала».
«Кивнула».
«Пообещала кивком. У некоторых древних племен кивок был сродни клятве на крови».
«Господи… Всё, молчу, я поняла. Кивок».
«Что?»
«Ну ты же не видишь, что я киваю, вот я и ставлю тебя в известность: кивок».
«Я растроган. Моргнул. Или ты меня видишь?»
«Хм…»
В моей – свои… В моей ли? В самом деле, моя ли это «История»? Откуда в ней набралось такое количество свидетельств моих несуществующих недомоганий? Я тут второй раз. Первый визит нанес всего лишь две недели тому назад. Сдал анализы, забрал пальто в гардеробе, пожалев, что свое – выбор был богатым, – и отправился восвояси. А тут… Прямо не «История болезни», а какая-то медицинская сага о пяти поколениях хроников, изданная под одной обложкой. Сага о больных Форсайтах.
Московская сага о больных Форсайтах.
Разве что в этой больнице поселились рационализаторы и они взяли пример с кладбищенской практики. Там, насколько я осведомлен, по истечении каких-то определенных лет можно хоронить свежеотбывших с этого света в чужие могилы, пристанища староумерших. Вылежала чья-то история болезни пару десятилетий и – на тебе: наклейка на обложке с новым именем, парочка новых страниц – вклейка, – и новый владелец. Был я захудалым, никчемным пациентишкой, невзрачным, с сомнительными тремя страничками жалоб и предписаний, а тут – раз, и уже пациентище! С «Историей»! Солидно. В регистратуре поглядывают уважительно. У самого, опять же, голову не сносит от мнимого удовольствия жить здоровеньким.
«Господи, какой же ты редкий болван. Шут просто!»
«Я сейчас обижусь. Третий раз про шута за день. Или четвертый? Явный перебор».
«Ну, прости. Однако же в самом деле…»
«Прощаю, но имей в виду, что это в последний раз».
«Не зарекайся, Ванечка».
«Мамой клянусь!»
«Здоровьем?»
«Нет, всей мамой. Комплексная такая клятва. И вообще, родня без здоровья – такая обуза!»
«Красавец!»
«Есть такое».
Доктор – я проглядел на двери в кабинет фамилию, но точно не Голсуорси – явно мельчит, заполняя страничку моей саги. Историк болезни. По всему видать, обязательство принял: уложиться со всеми моими бедами на остатке последнего листа. В самом деле, не вклеивать же еще один ради жалких двух, при снисходительности небес – трех месяцев. Пусть и разнятся в корне наши данные о «снисходительности». По моим идеалистическим представлениям, минимум лет на пятьдесят.
Что навеяло это число? Не исключено, что подспудные мысли о полтиннике в баксах, который бы мне сейчас ой как не повредил. И тоскливое предвидение, что из знакомых никто в долг не даст. Нет у меня больше состоятельных и в то же время доверчивых знакомых. Эти два мира оказались успешно разделены и теперь ни при каких обстоятельствах не перемешиваются. Единственное место, где они еще худо-бедно сосуществуют, это моя потрепанная записная книжка. Чувствую, такое положение дел не только у меня, но говорить об этом не хочется. И со мной никому не хочется. Чего зря ныть-то? Иными словами, с приличными людьми вожусь. Неожиданный вывод. Однако приятный.
Короче, знакомые из списка благодетелей выпадают. Незнакомые тем более денег не дадут, с чего бы? Но у незнакомых можно попытаться вытребовать пожертвование силой. По крайней мере никто не выкрикнет в истерике узнавания: «Ванечка, ты совсем сдурел?!» Правда, полиция может крикнуть: «Стой, стрелять буду!» Хорошо, если до выстрела предупредят. А какая разница? Пусть себе стреляют. Мне по барабану. Я вообще не понимаю, зачем так долго жить – еще пятьдесят.
«Мама? Странно. Совсем на тебя не похоже. Я поражен твоей сдержанностью».
«Вот так, Ванечка. Вот так. Не только тебе предначертано удивлять».
«Какое слово классное – предначертано. Вот и лекарь что-то еще мрачнее прежнего мне сейчас предна… чертывает… Так можно сказать?»
«Так даже подумать глупо».
«Ну, он-то этого не знает».
«Конечно. Не он этот балаган затеял».
«Однако же с какой готовностью подхватил затею! И смотри, не просто подхватил, а как далеко занёс! У меня не то что зрения – фантазии оценить расстояние не хватает».
«Потерпи самую малость. Скоро он тебя просветит».
«А ты, выходит, уже всё наперед знаешь?»
«Ну не всё, Ванечка. Так заноситься мне не по чину. Знать все наперед мне не положено».
«Вот и слава богу».
«Очень точно сказал. В кои-то веки».
«Началось…»
«Нет-нет, не волнуйся, никаких нотаций. И вообще, не я первой заговорила. Сам окликнул».
Видимо, доктор сократил что-то важное, без чего доверенная бумаге мысль перестала смотреться такой же мудрой, какой виделась на выходе из головы. Однако насильственная кастрация текста сэкономила как минимум одну строчку.
«Вопреки твоему сарказму, друг мой, он бы и рад вклеить еще одну страничку, но кто-то спёр клей. А степлер – предвосхищаю твою находчивость – на прошлой неделе позаимствовали в “Общую хирургию”. Оттуда вещи, как пленных, не выдают. Надо покупать новый. Можно выкупить старый, но выйдет дороже».
«Это многое объясняет. Благодарствуем за справку. Выходит, не жлоб?»
«Не до такой степени».
Доктор глубоко вздыхает, и я отчетливо понимаю, что вздох этот адресован не мне, по его мнению – обреченному. На таких, как я, глубокие вздохи уже не тратят.
Рубеж наконец взят, доктор – «браво!» – уложился в отведенный объем. Я подумал, что его тайной фамилией, назовем ее «мальчуковой», может оказаться Убористов или Мельчилов. Блендер тоже подойдет, если не русский… Но сказать ему хочется о другом. О том, что трехдневная щетина отнюдь не роднит его с рекламными мачо. Выглядит доктор скорее неопрятно, грязновато как-то. Не весь, только лицо. О руках такого не скажу. Самое время свои руки стыдливо подсунуть под задницу.
«С чего бы? Чернозем под ногти закрался?»
«Скажешь тоже… Образ такой. Иначе расползется образ, как горстка опарышей. Или там была кучка?»
«Не понимаю».
«Вот и чудненько».
«Ага, отлуп с подмостков, попойка под Беловежскую Пущу, пьяные сны…»
«Прекрасно сказано про отлуп».
«Я без умысла».
«Надеюсь».
«Хочешь поучаствую?»
«Ты об авторе рецензии? Пожалуй… Пальцы ему на руках склей на сутки. Пусть попробует накропать что-нибудь этими ластами. Шучу».
«Понимаю, что шутишь. Пары часов ужаса ему вполне хватит».
«Мама!»
«Я знаю, что ты против всего этого. Правда, не понимаю причины упрямства, но…»
«Ну?»
«… отношусь со всем уважением. Ты это хотел услышать?»
«Тебе ведь не нужен ответ».
Вот так. Отлично. Руки под попой. Теперь следует качнуться взад-вперед, вроде как в трансе. Еще раз. Для хирурга руки важнее, чем щеки, вообще лицо. Настроение для него тоже важно, без настроения в такой профессии никак. А пол? Пол хирурга не важен, так как все одно под наркозом валяешься. Но мужчины всё равно больше внушают доверия. Женщинам, кстати, тоже. Возможно, женщинам в первую очередь. С другой стороны, приставят к тебе какого-нибудь дрища с отпечатком аудиторной скамьи на портках. Мой, что напротив, не такой, мой внушает. Правильно сделал, что промолчал про небритость.
– Доктор…
– Минуточку…
Это моя минуточка. Ну да ладно, пользуйся. Только потом без обид.
Со своего места я зачарованно смотрю на завершенную во всех смыслах «Историю болезни» и вижу филигрань нечитаемых слов. Они напоминают след раненого муравья голубых кровей. Мне всегда почему-то казалось, что исполненные трагизма медицинские строки должны заполняться фиолетовыми чернилами. Голубые, на мой вкус, излишне легковесны для таких случаев. Голубые – для ОРЗ. Скорее всего, в фильме каком обратил внимание на пустяк – пустяки это мое, – вот и врезалось в память, насколько весомее всех других фиолетовые письмена. Даже черные выглядят слишком примитивно. Черные – для босяков: если такими чернилами от неумения вымазать руки, то следы затеряются среди грязи.
Врезалась в память эта ерунда про чернила, теперь торчит. Тем, что не поместилось. Наверняка отечественным был фильм, раз такие важные детали запали.
Впрочем, времена меняются, с ними изменяется мода на цвет чернил. Вот у судейских, наверное, тоже имеются свои, особенные предпочтения. В этом случае «модный приговор» – это о них. С другой стороны, двадцать первый век за окном. Правда, в районе, где я сейчас, нумерация века – всего лишь порядковый номер, цифра, к окну лучше не подходить, шатнет в прошлое. Так или иначе, сейчас эпоха компьютеров, и доктор, царапающий пером, сверяясь, прежде чем поставить дату, с новомодным айфоном, – странен, даже смешон. Только мне не смешно. Мне ни при каких обстоятельствах не должно быть сейчас смешно. Даже если он начнет рисовать карикатуру на мой диагноз. Даже если аккурат на пресловутых обоях.
«Как ты себе представляешь карикатуру на диагноз?»
«Никак. Я же не себе предлагаю заняться художеством. Вообще никому не предлагаю. Просто фигура мысли. Хотя если бы речь шла об ампутации…»
«Фу! Ванечка, остановись!»
«А что? Очень наглядно бы получилось. Слушай, тут обои трещат, сволочи, спасу нет. Так раздражает!»
«Ты приглашаешь обои послушать? Я бы предпочла Рахманинова».
«Эстетствуете, гражданка».
«На худой конец, дрова в камине».
«Будить в людях зависть – дурной тон».
«А ты не завидуй, терпи. Обои угомонить?»
«Терплю. Потерплю».
Наконец на меня наведен профессионально-сочувственный взгляд. Мне нельзя его пропустить. Я и не пропускаю. Принимаю. Как было задумано – глаза в глаза. Я во всеоружии: неподвластный воле случайно вырвавшийся порывистый вздох. Он на три такта. Двухтактный слишком мелодраматичен, однотактный свидетельствует об успокоении, а мне… – какое там успокоение?! Палец у виска. Не пистолетом и не средний тоже. Мизинец. Просто разминает кожу. Одну руку пришлось из-под себя выпростать. Словно втираю мысль, а она никак не втирается, но и от пальца не отлипает. Помните собачье говно на подошве и коврик под чужой дверью? Одно и то же.
Надо бы спросить что-либо умное, а не спрашивается.
– Голубчик…
Как точно определил! Умница! Молодцá! Столовский голубчик. Размокший капустный лист, нафаршированный чем-то непотребным, весьма вероятно недоброкачественным. В моем случае даже сомневаться не приходится, как выяснилось. И при этом в масштабе тарелки прискорбно мелок. Не голубец – голубчик! Телом и духом мелок. А уж в масштабе Вселенной… В масштабе Вселенной я вообще незаметен. Классно все разложил по полочкам, и ни одна не перекосилась. «Черта лысого я тебя из банки выпушу, Домовошка. Сиди там и считай своих косоглазых баб! Решительно никаких послаблений шельмецу! Мебель он, видите ли, крушить вздумал…»
– Да, доктор?
– Я вас понимаю.
– Я верю.
– Мне не следовало бы вам этого говорить, но… Все же один шанс есть.
Злосчастная муха чертовски мешает сосредоточиться. По моим представлениям, в стекле уже должна появиться вмятина. Я оглядываюсь на окно и только тут до меня вроде как доходит смысл последней фразы врача. Все, что летало, потрескивало, умолкает как по команде. Если изнутри я обклеен обоями, то они обваливаются все разом. Но внутри я неровный, поэтому красить будет трудно. И цвет… С выбором цвета – полная сумятица в голове. Красный? А если больная кровь меняет цвет? Может, об этом спросить? Ге-ни-ально тупо.
– Шанс? Доктор, вы это серьезно?
В этот миг дверь ординаторской распахивается и на пороге возникает странная бесформенная фигура в пижаме. Собственно, это пижама бесформенная, потому что фигура под ней даже не угадывается. Странность же объясняется небольничным происхождением одеяния. Никак не вписывается пижама в унылый и неприхотливый здешний антураж. Явно домашняя. В отделении пациенты довольствуются байковыми халатами. Халаты истерзаны больными телами, такими же душами и частыми стирками. Ничего ободряющего – таков смысл отечественного здравоохранения. Зато если повезет, и где-то в пределах неведомого ляжет фишка в пользу страдальца, то восторг от преодоления хвори с лихвой перекроет и без того быстро забывающиеся издержки. Поскольку на лопатки удалось положить не только болезнь, но и всю систему! Страну!
Каждое выздоровление от недуга – это маленькая, очень личная революция. Незаметная, непубличная. Потому что мы суеверные, а гордыня – грех.
Можно для развлечения однополых близких присочинить короб вранья, как хорошенькая и добросердечная медсестра проявила достаточно сострадания… Вы не гордый, не сильно принципиальный, она тоже… Пусть друзья завидуют, ведь недавно совсем не завидовали. Хоть какое-то людям разнообразие. Тем более что зависть же в перечне грехов пасется где-то в хвосте.
Поди ж ты, даже у грехов есть табель о рангах. А у лжи нет. Или есть? Ложь во благо? При том, что прелюбодеяние в удовольствие – все одно грех. Несправедливо.
Пришелец стоит в дверном проеме настоящим нездешним грандом. Даже несовершенство пижамных форм не может подавить впечатление отстраненной от обстановки и обстоятельств ухоженности. Он в клетчатом кашемире, сохранившем и темно-коричневый цвет широких полос, и бежеватый оттенок поля. Элегантно и мило. Подойдет любому, кому за шестьдесят по возрасту и лет двести по взглядам на жизнь. Чудом спасшиеся посевы моральной инквизиции. Для такой публики яркие цвета – рябь в глазах, улыбнувшаяся сыну соседка – шлюха, дочь, целующаяся с подругами, – лесбиянка, а внук, из любопытства попробовавший кальян, – законченный наркоман и нуждается в принудительном лечении, для начала – ремнем.
На мой беглый, однако придирчивый взгляд, человек в дверном проеме как раз из таких, меня не проведешь. По крайней мере, возрастному цензу он наверняка соответствует. Представления о физическом масштабе его личности, предъявляемые пижамой, на пару размеров опережают физическую реальность. Вряд ли гражданин до болезни был толстяком, не тот тип. Видно, что сухощав… привычно. Думается, что такими вещами «убедительных» размеров – под масштаб личности – свекров одаривают заискивающие перед ними невестки. Хотя почему только они? Кто угодно может: жена, теща, дети… Если в стране дефицит, а вещь явно из тех самых времен… Или магазин получил только один размер, за границей о русских весьма унифицированное представление…
Вот было бы любопытно взять да пожить по заграничному пониманию русского человека. Пожить, подумать, как они думают, что мы думаем… Собственно ничего любопытного, разве что сама идея. Мы и на свои, отечественные пропагандистские поделки не очень походим. Выстругивают из нас буратин, из них – пиноккио… Было бы чем, поднял бы тост за разнообразие. За кисть жизни, что пристыдит любого художника.
Похоже, что родня обнаружившего себя в кабинете доктора индивидуума подгадывала расцветку пижамы под цвет глаз. Глаз и волос, хотя на висках они кажутся мне чересчур яркими. Полированный орех, а не волосы. С трудом верится, что за столько лет ни один волосок не поддался соблазну поседеть. Это так, навскидку: не такой уж я зоркий сокол, чтобы каждый волос по отдельности разглядеть. Однако готов об заклад биться, что старый перец волосы красит. Я обещаю себе: если выживу, то первым же делом тоже подкрашу седины. В моем случае они необыкновенно ранние. Как озимые. Если озимые могут быть необыкновенно ранними. Почем мне знать? Я не агроном.
«Уже можешь записываться».
«В агрономы?»
«В парикмахерскую. Может, все-таки хватит ломать комедию?»
«Неужели именно сегодня, любимая моя мамулечка, тебе больше нечем заняться?»
«А я специально день высвободила».
«Ты хоть понимаешь, что иногда – а сегодня именно такой день – от твоего постоянного вмешательства я чувствую себя «андроидом»? «Ар ту…». Или как там его? Это в “Звездных войнах”».
«Ванечка, не хочу тебя обижать…»
«Ну да, они умнее. Я в курсе».
«Не о том речь. Торопишься. Их, друг мой, бессердечных, можно перепрограммировать. На худой конец, их, бессердечных и надоедливых, можно выключить. Ты же неиссякаем. Не одно, так другое».
«Не понос, так золотуха. Я понял».
«Ничего ты не понял».
«Ты тоже думаешь, что он покрасил волосы?»
«Удачно перевел тему, мои поздравления. Как тонко!»
Мне не до обсуждения филиграни мысленных диалогов. Я раздумываю, не потеребить мне прямо с налету нервы хмыря в пижаме вопросом: где он берет краску и почему так небрежен с подбором колера? Вместо одного получится два вопроса. Потом настанет время предложить пришельцу:
«Меняйте бренд, нагоняющий тоску незнакомец».
И заключительным аккордом:
«Не сочтите за труд сообщить, чем пользовались до нашей встречи, чтобы мне самому не вляпаться».
Вот такой исполненный вежливости словесный этюд желаю я предложить незваному посетителю. Ведь это лучше, чем «ты, мужик, кто?» и «вали отсюда, мешаешь!» При всех непременных достоинствах упрощенного – назовем его так – похода: лаконичности, прямоты и ясности. Кто сказал, что обходительность лучше? Вопрос сложен, поэтому мой выбор нейтрален: промолчать. Удивительная благовоспитанность, но вполне объяснимая. Не хочу рисковать, доктор может не оценить изысканность моего юмора, как и породистость хамства. Или оценит, но побрезгует подыграть. У него свои представления о моем будущем. Совсем не такие, как у меня. При этом я на свой счет совершенно не заблуждаюсь, а вот он, зараза, шельмует. Но по задумке мне предстоит принять и сжиться именно с его точкой зрения. Это начало забавы, которую никак не желает принять моя мама.
«Категорически».
«Столь категорически не принимает моя мама. Так лучше?»
«Сойдет с ботиками».
«Так говорили про штопанные на пальцах и пятке колготки. Я прав?»
«Сам просил не отвлекать».
«Ну, извини, тебе не угодить».
«Угодишь, если в беду… не угодишь».
«Удачно сказано. Заметано».
Как-то уж слишком серьезен мой поставщик недобрых вестей, сомнительный праведник Иов в белом халате. Не ровен час, я и в самом деле всерьез, без театральщины уверую, что «ласты» мои уже густо намазаны клеем. Остается сложить их вместе в подсказанный час и откланяться этому миру. Нет, перед этим их кому-то придется лизнуть. Как тыльную сторону марки или полоску на уголке конверта. Сейчас так доктору и объявлю. Правда, он может испугаться, что за моей язвительностью последует нешуточная истерика. Повод, как-никак, очень уважительный. Сильно заслуживает, чтобы психануть. Кликнет эскулап санитаров с ведерными шприцами релаксантов, с проверенными на прочность простынями. В итоге валяться мне спелёнутому – рожа от натуги багровая, глаза лососевого цвета, прическа веником, живот выпирает, потому как простыня молодецкую грудь в него выдавила. И вот тут, в тот самый миг, когда я беспомощен и безобразен, в палату, где без продыху пыль и годы ужаса, вплывает волшебная Милена… Нет! Никогда!
«Я смотрю, ты и в самом деле решил до конца поучаствовать в этом… фарсе?»
«Мама, у меня отпуск, почему бы не провести его в чужой интриге? Ну не вздыхай, прошу тебя. Заметь, я даже не возмущен тем, что ты опять здесь».
«Это не добавляет твоим решениям ни изящества, ни ума, ни дальновидности, сын».
«Неужели все так серьезно, что уже и не Ванечка, а сын? Сы-ын!»
«Нет пока. Особых причин для беспокойства нет. Признайся, что это тебя расстраивает. Не грусти, уж что-что, а усложнить свое положение ты сумеешь. Сомнений нет. Я ведь тебя не первый день знаю. Единственное, в чем ты предсказуем, так это в своей полной непредсказуемости».
«И для тебя? Не смеши…»
«А что ты думаешь? Иногда даже для меня. Кстати, что это еще за Милена? Я что-то важное упустила?»
«Ну, во-первых, в моей жизни нет никого важнее тебя…»
«Ой-ой, так и поверила».
«А во-вторых, Милена… Милена? Какое странное имя для медсестры».
«Отчего странное? Не всем же им быть Нюшами, Дашами…»
«Ничего не знаю ни про какую Милену. И вообще: покиньте мой мозг, женщина! Срочно покиньте. Не вынуждайте вызывать эвакуатор. Штраф завтра заплатите. Можно большой штраф в долг, можно чуть меньше и безвозмездно».
«Ну и пожалуйста. Ми-ле-на… Можно подумать! И еще я хорошенько подумаю насчет, хм, штрафа».
Порты мужчине коротковаты. Я не исключаю, что ему пришлось для удобства ходьбы подтянуть их повыше, под курткой не разглядишь. Мой опыт подсказывает, что ночная одежда – неважно, импортная она или отечественная – славится несуразно длинной мотней. Такой длинной, что либо гульфик, в простонародье ширинка, скрывает колени и сковывает движения, либо мотня худо-бедно на положенном месте, но тогда резинка – под грудью, а трубы штанин прерываются над лодыжками. Впрочем, не желаю будить ложных иллюзий, будто я хоть в чем-то такой уж прямо эксперт. Тем более не хочу казаться эстетствующим брюзгой. Виной всему старые фотографии из семейных альбомов с забранными в виньетки географическими уточнениями: «Трускавец», «Пятигорск», «Ялта», «Геленджик»… Запечатленные на них мужчины почти все выглядят именно так: майка, пижамные штаны под грудь, носочки и сандалии. Иногда через плечо перекинуто полотенце. Все очень практично и крайне демократично. Ведь и у демократии, как у всего прочего, тоже есть крайности.
Тощие лодыжки мужчины и впрямь выставлены напоказ. Пятки одна к другой – внутрь, мыски врозь. Случайные потуги на «первую позицию». Случайные, потому что муж явно не из балетных. Школьный кружок лет с полста назад? Предложили на выбор: военное дело или балет? Чудненько.
Из-за курьезной постановки ног в отвлекшем нас с доктором от печального персонаже прослеживается что-то неуловимо комичное, почти чаплиновское. Балетные позы редко добавляют воинственности, особенно если «танцевать» партию больного в пижаме. Лебедь занемог… При этом лицо посетителя не оставляет сомнений: клиент пришел поскандалить. Губы поджаты, щеки-брыли подрагивают, словно кто-то изнутри слабым током испытывает их на адекватность рефлексов. Чего молчим? А глазами молнии мечем. Понятно. Нахохлившимся в предвкушении стычки я выгляжу примерно так же. Только щеки не дергаются. Этот мимический навык приходит, по-видимому, с возрастом. Хорошо, когда знаешь, к чему идешь. Я смотрю на доктора, вопрошая гримасами: «Я прав? Скандал грядет? Тут нет никакой ошибки?» Он ловит мой взгляд. «Да», – коротко кивает в ответ. В смысле, нет никакой ошибки, пациент гарантированно заявился скандалить. Внешне доктор воспринял вторжение без малейшего напряжения, как данность, словно ждал. Он расслабленно улыбается гостю, как радушный хозяин улыбался бы докучливому соседу, от которого все равно не съехать. Я же мысленно благодарю судьбу и обстоятельства, ею подброшенные, за предостережение: старину доктора не следует недооценивать, он далеко не прост, «тертый калач». «Стариной» я, пусть и не вслух, называю его в ответ на «голубчика». Такие пустяки быстро сближают, а нам это важно. Наш общий и такой разный план состоит именно в этом.
– Что, любезнейший Павел Павлович, – оживает «пижама». Имя-отчество выговорено нарочито правильно, с расстановкой: «Па-вел Пав-ло-вич». Никаких закадычных «Палпалычей». – А ведь я выздоровел! Вопреки, так сказать…
– Не могу отказать вам в признательности за приятную новость, но, как мы оба догадываемся, я в курсе ваших дел. Прошу прощения, конечно же речь о делах касательно вашего здоровья. Можно сказать, сам руку приложил. А можно и про душу… Не будет преувеличением? Ну вот. Так что поздравляю, голубчик. Поверьте, есть с чем. В вашем случае – особенно. А сейчас, если позволите…
– Вы думаете, это я для себя выздоровел? Или, может быть, для вас? Чтобы вам премию за меня выписали? Или, может, вообще скажете, что вашими стараниями я не отчалил на тот свет? Руку он… Душу… Черта с два! И думать забудьте!
Пациент нервно, по-особенному сценично поправляет выбившуюся из-за уха прядь. Пальцы длинные и сложены щепотью. Так их складывают, когда руками едят плов. Сравнение абсолютно точное и совершенно дурацкое, если принять во внимание декорации и мизансцену. Почему, например, не представить себе мастеров восточных единоборств, «расклевывающих» друг друга руками? Потому что голоден, есть хочется. А тут еще этот мистер чертополох. Почему чертополох?
«Ванечка, может, ну ее, твою затею, и ко мне? У меня сегодня мясная солянка, сама готовила».
«Ой ли?»
«Ну, хорошо. Тебе всегда нравилась мясная солянка из «Пушкина».
«Не искушай».
«А как же без этого?»
«И не обманывай. Сама она наготовила…»
«Разве это обман? Это как разрез глаз тушью подправить, ну, правда…»
«Ну ладно. В смысле разреза глаз. Не отвлекай».
«Зря отказываешься».
«Всё может быть. Мам, ну зачем так жестоко… про солянку… Теперь в животе урчит».
«А как ты хотел? Кто-то безответственный посулил тебе, что будет легко? Я, кстати, могу вам прямо на месте столик организовать. На троих. Вполне мужская получится посиделка».
«Вот этого точно не надо».
«Что так?»
«Мама!»
«Я, Ванечка, я. Даже не сомневайся. Твоя мама. Пойду соляночкой себя побалую».
«Змея».
«Люблю тебя, мой беспокойный и бестолковый змеёныш. Может быть, шведский стол? Всё, всё, всё… Испаряюсь. Да, по поводу сэра чертополоха…»
«Мистера».
«Как скажешь. Чтобы ты случаем не сбился: его жест завладел твоим вниманием».
«Я помню».
«Ой ли».
«Ой. Без “ли”».
Жест «пижамы», он же «чертополох», не просто меня увлек – зачаровал. Он эффектен и подзуживает задуматься: а не отпустить ли мне волосы в вольный рост, чтобы подлиннее отросли? Ради такой вот светской картинности. Складывать пальцы щепотью я давно умею, еду солю так, по-деревенски, плов ел руками несколько раз. Однажды плов приготовил «доподлинный» узбек из дворницкой. Наколдовал горе-кулинар что-то рисовое, невообразимое, по наитию. Компьютер с Интернетом в его жизни напрочь отсутствовали, спросить рецепт было не у кого, да и спросил бы… – тот еще кулинар. Однако на закуску сгодилось и его варево. Ели руками, хотя и не плов. Вилки одному товарищу не хватило, и способ уравнять всех по-братски в правах нашелся сам собой. В самом деле, не есть же одной вилкой вдвоем? В конце концов, это негигиенично. Руками из общей кастрюли лучше. «Кошмарный ужас», как говорит одна моя знакомая.
Надо будет, перед тем как отращивать дополнительную шевелюру, порепетировать движения перед зеркалом. Подвигать рукой, головой подергать. Последнее особенно важно: задача – манерность, нервный тик нам не нужен.
Некоторые жесты чудовищно заразительны. Счастье, что я вовремя успел вернуть свободную руку в компанию к первой. Под собственный зад. Ладонями к стулу. Это не очень удобно, гораздо комфортнее, когда ладонями вверх. Вроде как попу, мишень не лучших приключений, поддерживаешь в трудную минуту. Потому что плечо ей подставить никакой гибкости не хватит, а чувства локтя, при всех акробатических издержках, может не хватить.
Словом, ладонями вверх – удобнее, а вниз – интеллигентнее, так как это положение рук оставляет окружающих в неведении о наличии в вашей жизни серьезных проблем. И, кстати говоря, голову такая поза надежнее держит в тонусе: меньше тянет повторять жесты, обезьянничать. Сомневаюсь, что еще кому-нибудь из живых существ дано так сидеть. И если я прав, то не только духовность, совестливость и еще неведомо что отличают нас от животных. Это радует. Не хватает духовности? Совести нет? Садись на руки ладошками к стулу – и ты уже человек. Здóрово.
Пациент в это время платком промокает губы. В «несобранном», не плотно сжатом состоянии его губы оказываются большими, красными и мясистыми. Им должно быть обидно столько времени проводить в поджатом виде, такая красота скрыта. Наконец дело сделано, губы из насосавшихся крови пиявок вновь превращаются в одинокого оголодавшего червя, а платок помещен в рукав пижамной куртки. Карманам продемонстрировано либо пренебрежение, либо недоверие.
Теперь нарушитель нашего с доктором тет-а-тет несколько раз сжимает пальцами щеки, двигая кожу вверх. Он словно бы проверяет – все ли на месте? Одна попытка не убеждает… Таким жестом можно было бы подправить форму лица, будь оно из пластилина или из глины. Лицо «пижамы», он же «чертополох» (всё же почему «чертополох»?) оказывается живым, и, как всё живое, оно тяготеет к привычному: стоит гостю убрать от лица ладони, все тут же возвращается на круги своя. А именно – щеки съезжают из-под глаз обратно к воротнику, слегка провисая ниже линии подбородка. Оголодавший хомяк, а не чертополох.
– Нуте-с, голубчик, что с вами? Что вы так возбудились? Вам ведь нельзя. Ну сами вы выздоровели, так сами. Да… Как вы выразились… Вопреки? Пусть будет вопреки. Но помилуйте, в таком случае мне тем более не ясно: при чем тут я? – Доктор окрашивает тон легкой обидой, но тут же вроде как берет себя в руки: – Однако ничто, уважаемый, не может мне помешать порадоваться за вас. Со стороны, если вам так больше угодно. Угу-угу… Ведь все так счастливо разрешилось! Вам бы, Валентин Саныч, и самому радоваться вместе со мной, а вы, как я смотрю, в полном раздрае. И недержание у вас, дежурная сестра в журнале отметила. Ничего унизительного, голубчик. Такое бывает. А вот зачем вы мокрый подгузник соседу подбросили? Вопро-ос.
«Знай наших! – аплодирую в душе доктору. – Получи, фашист, гранату…»
– Ложь! Злобный навет! Это всё потому, что я… Потому что она… А вот затем! Затем, что я против всех них выздоровел! Потому что…
– Ну же, не тушуйтесь. Продолжайте, голубчик.
– Это всё потому, что… сами отлично знаете почему.
Пациент на глазах теряет запал. Еще гоношится по инерции, но крышка над котлом негодования уже не подпрыгивает, огонь затухает, и это заметно. Доктор, молодчага, не поддался, не поддержал градус. Вскоре скандалисту, выдохшемуся и потерянному, предстоит вялое, вымученное объяснение чего-то совершенно необязательного. И вся эта неловкость возникнет лишь потому, что молча откланяться и прямо сейчас закрыть за собой дверь пришельцу представляется странным решением, в корне неверным. Справедливости ради надо признать, что его выбор понятен: какого черта, в таком случае, вламываться без приглашения и орать что есть силы? Уж конечно, не для того, чтобы бесславно отчалить, так и не дождавшись вожделенного скандала в ответ. На полуфразе. Тут с «пижамой» нежданно-негаданно происходит удивительная метаморфоза. Вероятно, где-то в складках его нелепого одеяния был мудро припрятан резервный источник энергии. Организм оказался мгновенно «запитан», и пациент заблажил:
– Потому что… вы все! Все одинаковые! Но эти хуже всех, сукины дети! Дармоеды! Всю жизнь на моем горбу! Они, чтобы вы знали, уже и соглашение у нотариуса подписали! А? Каково! Как деньги делить за проданную квартиру! Мою квартиру! Квартиру им, дачу, машину, деньги с книжки! Книжки! Видал миндал?!
Неожиданно, но очень целеустремленно его рука устремляется к ширинке.
По недоумению, промелькнувшему на лице Пал Палыча (он же Павел Павлович), я улавливаю, что его, как и меня, немало озадачило, покоробило даже слишком буквальное толкование расхожего выражения. Раньше под «миндалом» я подразумевал что-то совсем другое… Сейчас понимаю, что вообще ничего. Слово как слово. Смешное. И отлично рифмуется с «видалом». Просто говорил и не задумывался. У «пижамы», я так понимаю, оно вызывает весьма конкретные ассоциации. В наглядном подтверждении догадок я не нуждаюсь, поэтому что есть мочи гаркаю, потрясая недюжинной силой связок себя самого, присутствующих и, по-видимому, все отделение. Допускаю, что не одно:
– Хорош орать тут! Пшёл отсюда со своим «миндалом»! Жулик! Подгузниками он, понимаешь, людей шельмует. Нассы нам еще прямо тут, эксгибиционист хренов. И объяви, что это я нассал! Не видишь, доктор с больным занят? Больной – это я, если ты еще не проникся. Сам же признался, что выздоровел! Другим теперь дай! В женское иди «миндалом» своим трясти. Может там произведешь на кого впечатление, а тут не до тебя! Тут приговор человеку зачитывают!
Слова и воздух заканчиваются одновременно.
Доктор от моей неожиданной выходки мало сказать, что опешил. До визитера же только начинает доходить смысл моей тирады. Взгляд его напряжен, пристален и пытлив. Но мне не резон посвящать его в суть происходящего. В то, что я лицедействую, ломаю комедию. Не доверяя мимике, прикрываю лицо ладонью, вроде как бровь зачесалась. С той стороны, где соляным столбом замер Валентин Саныч. Незаметно для него подмигиваю врачу: «Как я его?!» Тот тихо щелкает дважды языком. На слух мне не определить: это укор или восхищение? Возможно, ни то ни другое. Просто он таким образом вывел себя из микрокомы, если такая есть. Есть, конечно. В народе ее называют ступором. Как бы там ни было, облегчения врач не скрывает. Потер ладони, поскреб ногтем возле уха, ручку переложил. Мы все одинаково ведем себя после шока – шевелимся бессмысленно, почесываемся… Это доказательства жизни. Предъявил его и «пижама», не отстал от Пал Палыча: сунул-вынул руки из карманов куртки, потеребил кончик носа, переступил с ноги на ногу.
– А у вас что? – демонстрирует пренебрежительный тон и умение пропускать мимо ушей неприятное.
Только что «пропесоченный» гражданин. Счастливчик, избавившийся от хвори. Откуда эта завидная сдержанность? Я почти уверен, что таких разносов ему еще не устраивали. Вообще сомнительно, чтобы кто-нибудь до меня позволял обращаться к нему в такой хамской манере. Если и случалось подобное, то очень-очень давно, в детстве. И получал он не словом, а «в глаз», скорее всего, от сверстников. Сомнительно, чтобы был маленький Валентин Саныч шкодлив и нервировал взрослых. Что до зрелых лет и нынешнего своего положения, то здесь нет и не может быть никаких разночтений – начальник. Пусть и средней руки, если судить по пижаме. Или разумно решил не выпендриваться в шёлке? Зачем дразнить людей из бренной части мира достатком? Выбрал что из старья, а то и в долг взял у кого-нибудь из небогатой родни. Или в счет долга. В любом случае – квартира, дача, машина, возможно не одна, непременный отпуск за рубежом, бездельники на закорках… Однако быстро с шоком справился. Респект тебе, незнакомец! Незнакомый Валентин Саныч.
Руку от ширинки Валентин Саныч еще во время моей тирады убрал и предусмотрительно скрыл за спиной. От греха подальше. В прямом смысле слова. Теперь и вторую руку заводит до пары. Подбородок вздернут, ни дать ни взять император гарцует вдоль гвардейского строя. Бесстрашен и недостижим. Так хочет выглядеть, но эта идиотская пижама на вырост…
Неужели этот человек пару минут назад в самом деле собирался предъявить собравшимся, а в их лице всей своей алчной родне личный детородный орган? Я уже сожалею, что поспешил, рано вылез с окриком. Вполне мог повременить пару секунд. Убедиться – правильно ли угадал намерения? Дождаться, так сказать, полной и окончательной ясности. Мы мельком переглядываемся с доктором. Подозреваю, что наши мысли слились в одном русле. Ничем, надо сказать, не подкрепленное допущение: недовольство моей поспешностью в глазах доктора не читается. Вообще непонятно, о чем он думает. Ненавязчивое напоминание бузотёру и выдумщику, что доктор тот еще «жук».
«Не время дремать, товарищ!» Неплохой плакат для заступающих в ночную смену.
– Ну же! И что же у вас за болезнь такая? – настойчиво, с нажимом повторяет свой вопрос Валентин Саныч.
И ножкой неслышно притопывает, забыл, что тапка на войлоке. Умел бы предвидеть, обрядился бы в туфли. Наверняка принесли из семьи для выписки, если сюда по «скорой» доставили. В туфлях и пижаме выглядел бы еще дебильнее, если таковое в принципе возможно. Надо было не «ну же!» вопрошать, а «нуте-с?!». И чтобы непременно с «сударем». Без сударя «штилю» не достает. Зато достает всё остальное. Уже достало.
«Какая такая болезнь?! А вот такая-сякая, незадачливый ты наш, докучливый енот, чертополох, пижама и потрясатель “миндалом”!»
Улыбаюсь при этом со всем возможным очарованием:
– Такая вот…
Сам не знаю, откуда приблудился «енот». Тем более в таком необычном, не делающим енотам чести контексте. Ничего личного против этих зверьком не имею. Вполне милые существа, если случайно с какими другими их не перепутал. Да вроде бы нет. Енот-полоскун. Маленький чистоплотный циркач. Когда меня раз в жизни привели в Уголок Дурова, я называл его «постирушкиным».
«Полоскалкиным».
«Пусть так. Так даже лучше».
«Догадываюсь, откуда произрос твой “постирушкин”».
«Тут и гадать нечего, тоже мне мисс Марпл. И не откуда, а из чего. Из бытовых трудностей».
«Извини».
«За трудности?»
«Э, нет. Трудности – это, мой друг, твой, как ты выражаешься, осознанно избранный путь. Но на время могу подставить материнское плечо под… сыновью попу».
«Один раз, буду обязан».
«Куда ты денешься, конечно, будешь».
«Но это не те обязательства, о которых я думаю».
«Конечно же, нет, никакого принуждения, шантажа, только сила убеждения и немного приправы из уговоров. Тебе енотов в быт запускать или как?»
Мне бы, факт, такие «постирушкины-полоскалкины» дома не помешали. Буквально дюжина. Дня на два. Стирки накопилось – страшно подумать. Но дома засел Дядя Гоша, ему такое соседство точно не понравится. Чего доброго споется с Петрухой, оба ревнивые, новичков не потерпят… Тогда – только держись! Зато полушубок на зиму может случиться. Енот – это ведь не бабский мех? Или, на худой конец, курточка, если Петруха раньше не подсуетится, не отхватит шмат на шапку, унты и варежки. Мечта, видите ли, у домового – сэт: шапка, унты и варежки. На Север он, что ли, со своим гаремом нацелился? В таком случае еще и доху затребует. Но если ему, мерзавцу, доху, то мне не останется не ху.
«Иван!»
«А что я сказал? Ровным счетом ничего. Намеренно и, заметь, без всяких усилий вовремя себя оборвал. Всё под контролем. Простенький такой экспромт, упражнение для ума».
«Для чего? У тебя мания величия. Кстати, к тебе обращаются…»
– Я вас слушаю, молодой человек. Вам был задан вопрос.
– А я уже, кажется, ответил. В детали посвящать не обязан, так что не упорствуйте зазря, милостивый государь.
После недавнего «соло» такой текст Валентин Саныча шокирует. Меня легче легкого заразить манерой изъясняться. Причем стиль не важен, без разницы стиль. Желаете «в падлу» – имеете, в «простите великодушно» тоже не будет отказа, «милостивый государь» – вообще мое, обожаю выспренность.
– И все же я настаиваю.
Повидло. Липучка. Смола. Точно начальник. А что если на его счет я заблуждаюсь? Такой тон, не манера, а именно тон, «мизантроп в капризе», столь же свойственен возрастным хроникам. Не всем. Только тем, кто чрезмерно дорожит статусом обладателя редкого, желательно единичного в природе заболевания. Таким людям отвратительна сама вероятность посягательства на их исключительность. В то же время, нисколько не обеляя заносчивых хроников, в интересах истины соглашусь, что похожее поведение встречается и у других типажей.
«Например?»
«Я и собирался…»
«Ну, извини. Поторопилась. Обычное бабское любопытство».
«Сгубившее Варварин нос».
«На базаре».
«Именно там».
Например, у людей, перенесших болезнь на первый взгляд незначительную, но непременно с драматичным названием. И еще раз – например… По заявкам особенно любопытных.
«Благодарствуем».
Например, микроинфаркт. Кому, спрашивается интересен размер?! Что вообще значит это «микро», если концы отдать можно – как полезет инфаркт вширь, сволочь такая. Каким бы он ни был, но это раз-рыв-сер-дца! Так или похоже убеждают себя эти граждане. Но еще больше их увлекает просвещение темных и беспомощных окружающих, прежде всего домочадцев. Последним, по счастью – а встречаются чудаки, что думают совсем по-другому, – часто нечего предъявить в ответ. Нет у них, сирых, «болячки» покруче. Да и такой нет, а значит, нет опыта, нечем крыть. Не насморк же предъявлять с чирием намного ниже. Словом, скептики, как правило, посрамлены, а болезный доволен собой. На время. До следующего разговора о здоровье.
Такие граждане обычно с мессианским неистовством веруют, что выжить им удалось по чистой случайности, чудом. При этом они трепетно лелеют и от себя несут в массы чужие воспоминания «заглянувших» туда, куда до срока смотреть не положено. К слову сказать: раз не положено, то и не удивительно, что никто ничего «там» толком не разглядел. Тоннель, туман… Услужливо подсунутое воображением предисловие к путеводителю по «тому свету».
Не поворачивая головы, вообще не меняя позы, я от всех этих мыслей так же мысленно сплевываю через левое плечо. Незаметно. Как дырку в воздухе сотворил. Три дырки. Плюнул трижды, так положено. Попал? Спугнул? Нет, пригнулся, гад. Ко всему, черт, приучен! Затем поспешно прошу прощенья у Господа, его близких и дальних, неведомых мне, кого оскорбил… нет, не языком без костей, все ведь молча. Мыслью без ума. «Микро» и в самом деле еще не означает «мелочь». Помню, на гвоздь велосипедом наехал. Дырка в колесе – микрее микры, а я обод погнул и велик километров шесть руками катил.
Всё же речь о здоровье. Всё же я дурак. И ко всему прочему суеверен. Суеверный дурак!
«Умница…»
«Я так и знал, что ты не упустишь такую возможность».
«А то!»
«Раз уж ты здесь, подскажи, сделай милость: говорят, что инициативный дурак страшнее классового врага. Кого в таком случае страшнее дурак суеверный?»
«Да никого. Ровно до тех пор, пока не начнет проявлять инициативу».
«Какая же ты все-таки язва!»
«Какая-какая… Родная! Какая же еще?»
– Ну же! – По-моему, в третий раз поторапливает меня Валентин Саныч.
Странно, что доктору не надоели его однообразные выпады. Видно, знает неугомонность товарища. Другого объяснения у меня нет. Выздоровел, «пижама», а замашки без пяти минут «переселенца» в иной мир остались нетронутыми. Все ему скажи да расскажи, потому как нельзя отказывать в последних желаниях.
Ловлю на себе заинтересованный, оценивающий взгляд Пал Палыча и сознаю причину его долготерпения. В самом деле, нет лучшего способа проверить, насколько усвоен преподанный материал, чем воззвать к его повторению. Или молча потворствовать. Как все мило устроилось. Везет вам, дорогой доктор.
Я скуп на лишние слова. Говорю всё как есть, без купюр. Диагноз, виды, отпущенное время. Разумеется, примерное. Делюсь всем, что недавно узнал о себе, безнадежном. Не упускаю ремарку по поводу шанса. Одного-единственного.
– Суть его мне пока что не удосужились прояснить, – позволяю себе легкое недовольство. Тут же виновато спохватываюсь. Мне не следовало скатываться до резкости. – Это не доктора упущение. Времени не хватило. Вы, с позволения сказать, зашли. Что же до шансов, то формально мне предоставлен один из ста. Правда, кто на выдаче – не уточнили. Даже напрягая воображение, не могу представить себе, кто бы это мог быть, и при этом ответ есть. Прошу простить, нервы… Один к девяноста девяти. Вот такая жизнеутверждающая пропорция, – завершаю я краткий экскурс в свою беду.
«Один к девяноста девяти».
«Драматично?»
«Опереточно, Ванечка. Нет, в общем и целом, и абстрагируясь… ты конечно же справился».
«Я рад».
«А я нет».
Вижу, что даже доктор напрягся. Словно кто-то другой, а не он собственной персоной поставил жестокий диагноз. Валентин Саныч вообще сам не свой. Потрясен. От корней до макушки. Был бы кедром – засыпал бы пол шишками: «бэнц», «бац», «бух»! Хорошо, что далеко от меня стоит. Вне всяких сомнений, с этого места мое неприкрытое хамство списано на душевное состояние. И перечеркнуто, как демократом прошлое. Но прощено.
– А я что… – тушуется незваный гость.
Как и следовало ожидать. Я и ожидал.
Он опять опускает руку куда не следует. На этот раз мирно, как какой-нибудь задумавшийся испанец, скребет в промежности. Надо признать, дьявольски заразительно. Как с непослушным локоном за ухом, как с «массажем» щек. Талант у человека. Я еле сдержался. Похоже, мы с доктором впрямь лопухнулись, слишком прямолинейно истолковав сорванную попытку. Слово сбило с толку. Чертов «миндал». Недооценили мужика. Или наоборот – переоценили?
Мне от нечего делать в голову лезут разные дурацкие мысли. Например: что если на эксцентричные способы поддержать общение Валентина Саныча вдохновила фигурка брюссельского «писающего мальчика»? И он, творческая натура, решил порадовать другую столицу, Москву, «живьем ссущим пожилым мужчиной»? Кому-то нюанс, который я подмечаю, покажется сущим смехом, но «живьем» в онкологии – это сумасшедший прогресс.
«Кто бы спорил».
«И ты не будешь?»
«Не буду».
«Я поражен и тронут одновременно».
«Надеюсь, тронут… за приличное место?»
«Мама, стыдись».
«А что? Вижу, как тебя увлекло. Точнее – куда».
– Идите, Валентин Саныч, голубчик. Я к вам загляну. Попозже. Через часик. Добро? Или даже раньше. Как только документы на выписку будут готовы. Думаю, раньше управимся. Полчаса. В крайнем случае – минут сорок. Я сейчас же распоряжусь. Отправитесь домой к совести упырей своих взывать, а неподдающихся лишать незаслуженных благ.
– Да пошли они… – устало отмахивается сникший моими заботами скандалист.
Больше резервов, способных ему вернуть кураж, нет. Мне кажется, он и домочадцам выговаривать ничего не будет. Сегодня точно нет. Затаится ради будущего. Тем более что встретит его семья наверняка радостным застольем с салатами и пирогами. В конце концов, не чужие же люди. Сволочи – это да: квартиру продавать, выручку делить… Но не чужие! Начать с того, что не продали и не поделили. Хотя, возможно, потому и не продали, что о дележке не договорились. Отметаем допущение как абсолютно ничем не необоснованное.
«Кроме показаний потерпевшей стороны».
«Заметь, дорогая моя, что сторона так и не потерпела. Она, сторона, с одной стороны не потерпела произвола, но с другой – так и не стала потерпевшей. Событие потерпения не наступило. Я всё понятно изложил?»
«Ты сам как думаешь? Исключительно нет. Будь я филологом, у меня бы на первой фразе терпение лопнуло. И потерпение тоже. Из-за нетерпимости к словоблудию. С твоей тягой к изобретению странных слов ты мог бы стать заметной фигурой в юриспруденции… Я недавно наткнулась в телевизоре на речь одного прокурора… Но по сути ты прав».
«Наконец-то, хоть в чем-то. Кстати, “исключительно нет” – это не менее заметный вклад в современную лингвистику».
«Благодарю за признание заслуг, однако не вправе претендовать на ваши, сэр, лавры. Продолжай, не отвлекайся».
«Ого! Тебе интересно!»
«Без комментариев».
То, что благородное семейство на бумажке циферки рисовали, так это нормально, научный подход, перспективное планирование называется. И чего мужик взъярился? Сам ведь во времена госплана вырос.
«Бинго!»
Пал Палыч выжидает, пока за Валентином Санычем плотно закроется дверь. Потом с коротким смешком поясняет мне если не все происшедшее, то самую интригующую его часть:
– Бреем… Как я сразу не догадался? Ну там… А когда волосы отрастают, то чешется – спасу нет. Я по собственному аппендициту помню.
– Я так полагаю, что с моим диагнозом… Мне брить… хм… нужды нет, я прав? Само осыплется. Как с белых яблонь дым. Потом яблоки, листва…
– Мне импонирует ваша выдержка. Правда-правда. Поверьте, здешние стены…
Ага, вот еще почему обои отклеиваются – от страданий. Нежные какие. А по узору не скажешь.
«А что скажешь по узору?»
«Двадцатый век. Поздняя эпоха застоя».
«Уверен?»
«Нет, конечно. Но скажу “да”. По поводу века точно. Ленина, однако, не помнят. Разве что деревом».
«Ленина?»
«Нет, бумага была деревом».
«Напиши об этом рассказ».
«Однажды непременно».
– Вы про шанс говорили. Насколько это серьезно?
– Вполне. Однако мне бы не хотелось, чтобы наш разговор… Понимаете ли, голубчик, врачебная этика, ну и все такое. Сейчас вы поймете, почему я об этом. Речь не о традиционной медицине.
– А что, в медицине тоже есть нетрадиционная ориентация?
– Я понимаю ваш сарказм. Вам сейчас очень непросто.
– Извините, мне не следовало…
– Не извиняйтесь. Всё в порядке. Есть один кудесник. Шаман, можно сказать… Он мою жену в прошлом году с таким же, как и у вас, диагнозом с того света вытащил. Но…
– Доктор…
– Подождите, дослушайте.
– А у меня есть время?
– Мало. К сожалению, времени как раз крайне мало. Но это еще не всё. Время не единственное, чего может оказаться недостаточно.
– Да не тяните же. Простите…
– Вы очень торопитесь.
– Так ведь сами признались, что зерен в верхнем сосуде моих песочных – воробью на поклёв, а может, и того меньше.
– Занятное сравнение. На мой вкус… Я бы, признаться, вспомнил о колибри. И то, как они пьют…
– И я пью. Даже сейчас вспомнить приятно.
– Насколько я помню, колибри потребляют нектар.
Шутит, ехидничает, умничает? Или провоцирует?
– Я тоже. Нектар – это, как я понимаю, образ. У всякого свой нектар. От всех по способностям – каждому по нектару. Читал что-то похожее про реалии социализма.
– Вы слишком молоды, чтобы судить.
– И ни чертá не разбираюсь в орнитологии. В юриспруденции тоже. Так что судить не берусь. Не мое. К тому же, если принять, что отпущенное мне на земное существование время и есть полноценная жизнь, то я очень стар.
«Ну, завернул так завернул».
«Вот и не разворачивайте пока, оставьте как есть».
– Вы же у нас журналист? Запомню, с вашего позволения. Сравнение то есть запомню. Очень… впечатлило. Часы, воробей… Действительно, про колибри – это как-то не по-нашенски. Вычурно. Забыли про колибри. Идет?
– Да, конечно, идет, почему нет. И еще раз да – журналист. Судя по всему, «очень скоро бывший». Нет, «очень скоро выбывший».
– Чувство юмора у вас не отнимешь.
– Отчего же? Похоже, способ найден. Вы его во мне обнаружили. Так что моим журналистским амбициям скоро… того.
А еще я снимался в кино. Можно сказать, звезда сериала. Играл геройски погибшего в Чечне сына хороших пожилых людей. Один мой знакомый подвизался кем-то малозначимым, еще менее значимым, чем микроинфаркт, на частной, каковых не счесть, киностудии. За сто долларов он выторговал у меня право на использование в сериале моей фотографии и заручился клятвенным обещанием сорок баксов «откатить». Так я, черно-белый, торжественно застывший, трижды появлялся в кадре. В рамке с отсекшей угол траурной лентой. Где, когда и кто умудрился снять меня таким собранным, строгим – я так и не вспомнил.
История также скромно оставила без удовлетворения мой интерес к тому, каким образом мой знакомый наткнулся на фотографию, если она была в фотоальбоме, засунутом среди книг. Наверное, заначку искал, потом увлекся и случайно нашел способ, как заработать больше, чем надеялся найти. Уверен, что этот гад получил намного больше денег, чем отстегнул мне. Пусть и клялся, что никакого личного интереса, кроме доли из моего гонорара, у него нет. Замучился, пояснил, людей упрашивать: никто не хотел даже таким «щадящим» образом исполнять роль покойника. Мол, все как-то разом подсели на мистику.
«Вот же незадача… Чего же он своей фоткой не воспользовался? Значит, был личный интерес! Говнюк… Ну почему все самые важные вопросы вечно запаздывают?»
– Ну зачем же сразу «того». Еще тряхнете газетный мир за бороду. Зачем же вы так, любезный Иван Васильевич.
– Для начала надо бы бога за бороду… Без этого – кранты, шмитец.
– Как вы сказали?
– Шмитец? Это чешский разговорный вульгаризм. В немецком, наверное, подслушали, но я не уверен. «Конец», короче, означает. Финиш.
– Удивительно, вы знаете чешский?
Больше чем удивительно. Не бывал, не знал, даже среди интересовавших не числил.
«Что происходит, мама?»
«Откуда мне знать, Ванечка. Это целиком и полностью твое игрище».
«Ты абсолютно в этом уверена?»
«Мне поклясться?»
«Да нет, не стоит. Наверное, кто-то в компании ляпнул однажды, запало, теперь вот всплыло… Шмитец? Хорошая замена нашему… аналогу. Очень похоже и, что важно, совершенно ненаказуемо».
«Пристроил “всплывшее”. Приехали, куда не ожидали. Здрасьте!»
«Привет!»
– Так что, доктор, по поводу моего шанса? Шамана?
По идее, я, как та настойчивая, мечтающая преодолеть стекло муха, давно уже должен был бы пробить или хотя бы промять своим стуком сознание врача. Причем в самом чувствительном месте.
– Что-то, Иван Васильевич, заставляет меня сомневаться.
– И всё же? В чем ваш риск?
– Мой риск? Никакого. Просто это дорого и далеко.
– Насколько дорого-далеко? Миллион? Луна? Что? Где? Ну говорите же!
– Мне лично даже пришлось квартиру мамы, покойницы, продать. Двушка, в самом центре. Торопился, продешевил, но разве в такие моменты считаешь.
– Понятно. Двушка. Дешево. Продолжайте. Умоляю.
Я переживаю, что взял не совсем верный тон, мое понукание выглядит резковато. Доктору оно может показаться грубым. Но ведь должна же быть у почти безнадежного больного – опустим полуфантастические «шаманские» варианты – хоть какая-то привилегия?
– Прага.
– Прага? Ага, теперь понимаю.
– Ну да, удивили меня чешским словом. Прага.
– Слово случайно запомнилось, я в чешском ни бум-бум. Даже не слышал, наверное, как звучит. Возможно, слышал, но не знал, что это чешский. В любом случае не опознаю. Но все равно, спасибо вам, доктор. За шесть секунд надежды спасибо.
«Силен. Про шесть секунд надежды, это я тебе доложу…»
«А то?!»
«Почему шесть? Ты считал? И на Прагу отозвался, словно тебе Токио назвали или Сидней? Не бог весть как далеко и дорого. У меня в Праге один старый знакомый обосновался, кондитеркой занимается. Посетовал, что две трети города – наши. Сплошь и рядом русская речь. Если можно назвать ее русской. Его, конечно, куда больше расстраивает качество, не количество…»
«Мамочка, повремени, пожалуйста, сейчас ведь собьешь с настроя».
«Об этом можно только мечтать».
«Помечтай, пожалуйста, в одиночестве».
«О! Как вы жестоки…»
«Мам!»
«Удаляюсь в садик мечтаний. Меня уже нет».
– Простите. Я, право, не хотел вас шокировать, но ведь вы зрелый человек…
– Увы, доктор, настоящая зрелость наступает тогда, когда начинаешь осознавать все счастье наделанных в юности глупостей, а пока… В общем, нет еще… И мама всегда о том же… Кстати, квартиру ее, «трешку» в самом центре, к сожалению продать не могу. Разве что вместе с мамой.
«Браво!»
«Угу».
– Я в самом деле не хотел вас…
А почему, спрашивается, ты «нас не хотел», противный? Чем мы тебе не вышли?»
«О как…»
И я, заметьте, уже не голубчик. Враз перестал быть «голубчиком». То есть «голубчики» – это те, кого хотят. Расхотели «голубчика», так получается. Да полноте, сударь, я все понимаю. Ваша попытка засчитана. Жаль, не сложилось.
Я тщательно слежу, чтобы весь сбивчивый монолог после маминой реплики правильно отразился на моем лице. Мне главное не сбиться, потому что в голову совершенно непрошенными и совсем невпопад лезут мысли о юной медсестрице, подчиненной Пал Палыча. О Милене.
Пусть мама сколько угодно язвит насчет необычного имени, но мне нравится его думать, произносить.
«Я молчу».
«Я слышу».
Если Милена еще не ушла, а я безнадежно болен, и она знает об этом, должна знать… У безнадежного, если прикинуть, куда меньше ответственности за свои поступки, чем, скажем, у надежного… Не так… У обнадеженного – вот оно, правильное определение! – гражданина. Самоконтроль занижен. Возможно, он напрямую связан с иммунитетом. Надо будет уточнить. О разуме и говорить не приходится: что было – растеряно. По-другому сказать, разумность пребывает в безнадежной растерянности. Похоже, что безнадежность – всеохватывающее явление, подавляет любые инстинкты. Кроме одного. Инстинкта…
«Спаривания? И “утрачено”, Ванечка. “Утрачено” – лучше, чем “растеряно”. На мой вкус, более литературно и ощущается рок».
«Ты о чем?»
«Я о разуме. Что было – утрачено. Не растеряно».
«Уловил. За подсказку с инстинктом отдельный поклон. И… спаривание. Просто идеальное слово. Не желаю скупиться на похвалы, не жаден, а потому посчитаю твою находку блестящей».
«Да уж, не ваш пошловатый новояз. И… Ванечка, еще раз: не заигрывайся, будь другом. Пожалуйста».
«Все под неусыпным и неустанным».
«Ну-ну, сам себе контролер… Лучше бы тебе уснуть и устать».
«Мамочка, я искренне надеюсь, что это не намеренная оплошность и ты выпустила из виду еще одну особу по чистой случайности. Это во-первых».
«Пусть так. А во-вторых?»
«А во-вторых, пожалуйста, не мешай. Контролируй хотя бы… скрытно».
«Хм… Я же не вмешиваюсь. Хорошо, будь по-твоему: я же стараюсь не вмешиваться».
«Старание оценено на троечку с минусом».
«Да хоть как. Я мать, и я за тебя волнуюсь. На мой взгляд, ты слишком вошел в раж».
«Ну что ты, ей богу. Разве я дал тебе повод тревожиться?»
«Скажи, что ты шутишь».
«Шучу. Это я не всерьез. Откликнулся, зацени, как собака на команду. Скажи, что шутишь! Шучу. Еще пароль-отзыв…»
«Ва-анечка!»
«Ты права, я сегодня в ударе».
«Вот и не зашиби сам себя, не теряй контроль».
Мне контроль над собой потерять – раз плюнуть. Причем все с рук сойдет. Мама, похоже, и не заметила, как я тонким пером вписал эту вероятность себе в привилегии.
«Не задавайтесь, “тонкоперый сударь”, всё твоя мама заметила. Даже загогулины на полях. Не сомневайся».
«Это была провокация».
«Мы еще и провокатор?»
«Мы? Самую малость».
Милена… Вот она бы наверняка поняла меня и согласилась, что обреченным положено терять над собой власть разума. Только чувства! Ничего, кроме порыва! Но не похабным же образом, чтобы у доктора на глазах… Или у доктора на столе… Или как раз таким?
«Ваня!»
А если он сам с ней вот так же? Кобель старый…
«Да уж. Тут я бессильна и не могу не согласиться с характеристикой. Такая разнузданность! Похоже, Ванечка, вас с доктором рознит только возраст».
Странно, я легко представляю себя с Миленой в постели, но совершенно не понимаю, как с ней начать утро. С чего? Точнее, с каких слов? А что если просто: «Доброе утро, Милена!» В самом деле, так ли необходимо загодя продумывать каждый пустяк – жест, реплику? Права мама: все Девы – жуткие зануды. И совершенно не способны на спонтанное, необузданное, взрывное чувство. Слышу: «Мои комплименты, сынок». Саперы, и те меньше опасаются ошибок… И опять: «Ну уж, Ванечка…Тут ты себе масштабно польстил». Что за напасть… Это я сам с собой разговоры разговариваю? Трепло за двоих. Прикинь? Может все мамины «интервенции», «вкрапленьица» тоже я выдумал? Тогда самое время поспрошать Пал Палыча про психушку получше. Только не частную, на частную денег нет. И, кстати… Совсем уже мельком: я вообще-то формально не Дева, но при этом самая что ни на есть она. Было дело, полюбопытствовал у родительницы: что за странности? Ответ получил развернутый, исчерпывающий. Как заслуживают того важные жизненные вопросы.
– Так сложилось, Ванечка, – пожала плечами мама.
Собственно именно это движение позволило мне оценить лекцию как чрезвычайно лапидарную, но в то же время не лишенную эмоциональности. Чуть позже мама сама вернулась к теме. Видно, усмотрела в своем ответе легкую недосказанность. Уточнение сводилось к открывшейся для меня возможности…
– Если тебе так важно сделать свой тайный знак Зодиака для всех открытым, то это, Ванечка, можно устроить, – прояснила мама. – Но только учти: будет много мороки с документами. Причем каждый год. Объяснять в разных учреждениях что-то придется… Друзьям и знакомым, кстати, тоже. Тебе это так важно? Если да, то я все устрою… по упрощенному, скажем, сценарию. Никто ничего лишнего не узнает. Не заметят даже. Но ведь ты будешь против этого, ведь так?!
Я принял подачу и запулил мяч в кусты. Иными словами, смирился с тем, что я «тайная» Дева. Зануда в секрете. Нет – в засаде. Умом можно тронуться.
– Доктор, мне надо все обстоятельно взвесить, подумать… Да что я такое говорю, чего тут взвешивать, думать… Посчитать надо, прикинуть… Пара минут вас не смутит?
– Разумеется, я подожду. Не торопитесь, но помните…
Ловлю себя на том, что держу руку приподнятой. Ладонь, пальцы направлены на хозяина кабинета. Напоминает небрежное благословение, на самом же деле это просьба остановиться, не договаривать. Интеллигентный такой знак «Стоп». «Стопочки!» Доктор легко прерывает фразу и отводит взгляд в сторону. Вежливый, обходительный, не желает смущать в непростую минуту. Теперь мой жест выглядит несуразно и я «отзываю» руку на массаж переносицы. Исподлобья скрытно наблюдаю за Пал Палычем. Он вроде как изучает ранние записи в кондуите с моим именем на обложке. При этом весьма неосмотрительно поигрывает перьевым монбланом. Не удивительно, что докторский халат впереди весь в мелких синих крапушках. Замечаю, что и мой визави проявляет не афишируемое любопытство к моей скорбной персоне. Следует изобразить хоть какую-то работу ума, и я принимаюсь мысленно собирать пятнышки на белом халате. Задача: вычислить примерную площадь поражения в процентах от всего одеяния. В моем случае складывать следовало бы совершенно другое, пиастры, но это сложение – дважды два. По-хорошему, такой арифметики даже на задумчивую морщинку на лбу не хватит. Нецелые сорок баксов в рублях. Все с собой. В кармане. «Нецелые» – это никак не больше тридцати. Семь сотен на счету, из них шестьсот пятьдесят задолжал за жилье. Это раз. Само жилье – чужая комната в коммуналке в подмосковной пятиэтажке, где ни белорусам нет жизни, ни узбекам, и они превращаются в крымских татар. Это два. Может, правильнее посчитать – «минус два»? А что причитается на счет «три»? Да ничего не причитается на счет «три». А должно? Конечно же Прага… Столица Чехии выступает под этим номером. «Столице» по-чешски – стул как предмет и, по-моему, анализ кала тоже. Ка-ка-на-лиз. Да что ж это такое творится?! Не знаю я такого слова! Неведом мне никакой чешский!
«Мама, это твои выкрутасы-шуточки? Голова кругом. Так ведь на самом деле из онкологии в психушку съеду. Ты меня слышишь? Если нет – скажи “нет”».
«Нет».
«Я так и думал. Полагаю – это “нет” касается и моих подозрений».
«Да».
«С чего это вдруг такие ответы… экономные. Слушай, а что, если мне только кажется, будто я всю эту бодягу затеял? Может, это твои неведомые расклады?»
«Сократ! Ну, подумай, стала бы я так вдумчиво откликаться и отвлекаться на полную ерунду, которую ты затеял. И ту, что сейчас несешь. Обрати внимание, все вопреки моим увещеваниям… Это какой-то абсурд. Подозрительный ты нынче не в меру, друг любезный! Ко всему прочему, я сейчас занята. Так что извини».
«Думай, когда несешь ерунду. Гениальный совет».
«Чем богаты».
«Ты же сейчас занята».
«Вот именно».
Если не считать бока и спину – там я не вижу, то процентов пять. Это я о чернильных пятнах на докторском халате. Шесть процентов испачканной территории – это максимум. Хмыкни и кивни, вроде как сам себе, своим мыслям: все, справился, сосчитал. Срослось, но еще нет полной уверенности. Окончательной нет. Или есть? Ба-а, вытанцовывается недалекое зарубежье. Теперь улыбнись. Уголками губ. Не лыбься, как счастливый дебил. Ты по-прежнему «сбитый летчик». И земля близко-близко.
Доктор заинтересован моими гримасами. Он отрывается от бумаг, смотрит внимательно, пытливо и долго. Ни на что не отвлекается, зрачки как застыли, я так не умею. У меня то муха, то обои.
Два вопроса возникают в моей голове одновременно, и возникшая толчея мешает найти правильные ответы. Убежден ли Пал Палыч, что я «купился» на разыгранный им спектакль с болезнью, которой нет? Это был первый вопрос. И второй, лично для меня куда более важный: почему я, тряпка, спасовал и забрал документы из Школы-студии МХАТ?
«А ведь это ты, мамочка, от актерской стези сына отвадила. Вынудила загубить талант, променять сцену на никчемное перо. Лишила счастья и наследника своего и его несостоявшихся зрителей. Что теперь скажешь? Понятное дело, молчишь. Молчи-молчи… Когда сказать нечего, то “сигнал пропадает”, да? Или правильнее говорить “сеть упала”?».
«Со смеху упала».
«Освободилась?»
«Как ты угадал? И сколько язвительности в тоне… Прямо Остужев! Но ты же, неуч, наверняка думаешь, что Остужев кто-то вроде Чумака. Только я не про прозорливость, а про актерство. Вряд ли тебе известно такое некогда великое имя. Смоктуновский подойдет? Он тебе ближе? Да, чуть не забыла… И будем считать, что язвительность твоя осталась незамеченной».
«Так уж и неуч?! Александр Алексеевич, коли мне не изменяет память. Александр Алексеевич Остужев. Малый театр… Незнамов, Чадский, Ромео… Знаю даже, что фамилию по отцу, вполне, кстати сказать, сценическую – Пожаров – он довольно-таки остроумно сменил на Остужева. Потому что в начале карьеры поклонники в восторге выкрикивали его фамилию и в провинциальных театрах не раз случалась паника. А однажды кто-то вызвал пожарную команду. Еще он был глух и поэтому говорил очень громко. Партнеров же читал по губам. Так сойдет?»
«Удивил. Да что удивил – сразил наповал!»
«Знай наших! Но ты права, мама, Иннокентий Михайлович мне все-таки ближе».
«Соберись, Ванечка! Какая еще школа-студия? Ты и с нормальным образованием без пяти минут безработный стажёр. Которому, кстати, почти тридцать. Через неделю следа от офиса вашего не останется… В курсе уже?»
«А то! Правда, я им недели две дал. Ты права, куда мне… Поздно уже. Да и хватит учиться, надоело хуже горькой редьки. Это во-первых».
«Вольно было колобком по институтам да факультетам кататься».
«Не перебивай. Доучился же? Сейчас будет “во-вторых”. И это “второе” самое главное».
«Истомилась вся».
«Во-вторых, я ведь у онколога и он все про меня знает. По крайней мере, больше, чем я о себе. Я так подозреваю, ему осталось только согласовать свои выводы на мой счет с тем, кто повыше. Да нет же, с тем, кто выше всех».
«Фигляр».
«Фольклорно. Это в смысле – прикольно».
Доктор, доктор… Не доверяю я людям, которые сперва в тебя коброй вперятся, а потом двигают глазками слева-направо и наоборот, словно в уме считают. Наконец, глаза поднимаются к потолку – уже начали тратить сосчитанное… Типично для постовых, которым предлагают «разойтись по доброму» в непривычных русскому счету «еврах».
– Доктор, я могу задать вам вопрос?
– Любой, Иван…
– Васильевич.
– Пал Палыч.
– Пал Палыч. Конечно. Я собственно в курсе. Пал Палыч, я как-то не очень верю, вы уж простите великодушно, в человеческое бескорыстие. Ваш личный… в чем интерес? Вряд ли дольку держите в турбюро, обхаживающем чешское направление. Уж простите за моветон. Или из семьи кто в бизнесе?
Смех доктора звучит искренне, заразительно. Он подается с креслом назад, откатывается от стола. Похоже, цинизм и хамство для него сродни великому: лучше видится на расстоянии. Благодаря этому маневру я замечаю, что джинсы на нем не дешевые, от кутюр, мокасины мягкие, тоже явно не «левые». Нехилая «сменка», когда на улице время для валенок с галошами.
– Черт… Вы мне нравитесь, Иван…
– Иван Васильевич.
– Жаль, если такой молодой, обаятельный и симпатичный человек… Да нет же, что я такое говорю. Попробуйте все-таки не упустить свой шанс.
– И все же, простите за настойчивость…
– Ну… Представьте себе… Хм… Ну, сугубо гипотетически, представьте себе, что моему «личному кладбищу» нет никакого резона прирастать новыми, с позволения сказать, крестиками.
– И полумесяцами.
– Тоже. Хотя полумесяц – это бада ад-далялль, неправильное новшество. У мусульман нет символа такого, как крест у христиан. Удивлены? Хобби… Скрипка не далась. Руки справлялись, а уши нет. Обделен музыкальным слухом, ничего не попишешь. Ну, об этом ладно… Словом, зачем мне сложности в преддверии конкурса на замещение вакансии главврача? Такой ответ вас убедит?
– Пожалуй. Офтальмологам в этом смысле проще.
– Вы будете смеяться, но мама мне только вчера говорила то же самое, про дантистов…
– Мудрая женщина.
– Это да.
А ты ее двушку в самом центре задешево… Квартиру покойницы… А она, по всему выходит, жива-живехонька. Вот и дай ей бог. Если, конечно, она с этим обалдуем не в доле. Вот такое условие я господу навязал. И ничего, проглотил всевышний.
Пал Палыч со мной чрезвычайно мил, а меня так и подмывает обозвать его гнусной скотиной! И за что, спрашивается? А вот за все это!
«Друг мой, ты сам этого хотел».
«А теперь хочу в физиономию ему, гаду, плюнуть».
«Эк же ты, Ванечка, переменчив! И что за слог… В рожу… Гаду… Стыдись».
«Ну вот скажи на милость, что за жизнь такая, если приходится отказывать себе даже в таком пустяке, как назвать чудовище тем, кто он есть на самом деле? А если бы я не знал, что все это липа?! Может, и в самом деле хрен с ней, с такой жизнью?»
«То есть мы уже не жулик. Мы опять самую малость провокатор и еще моралист».
«Кто жулик? Это я жулик?»
«Ну, положим, ты тоже. Так устроит? Удивительно, как вы с доктором нашли друг друга?»
«Совершенно случайно».
«Ванечка, мне не требовался ответ, но всё равно спасибо».
– Я очень признателен вам, доктор. Простите, если я… Но вы же понимаете… Честно говоря, я совсем оказался не готов. К такому вот, с позволения сказать, повороту. Уж больно крутым для меня, проходящего, он оказался. В смысле ходящего прямо от жизни к… наоборот. Хотя и не кисейная барышня. А тут еще варианты, оказывается, есть.
– Один вариант.
– Ну да, один. Вы не сомневайтесь, я сумею отблагодарить. Просто в голову пока ничего не приходит.
Руки Пал Палыча разведены в стороны, ладони раскрыты мне навстречу. Безупречная поза все понимающего, сострадающего, зла ни на что и ни на кого не держащего. И лицо в тему:
– Помилуйте… Да о чем вы?! Иван Васильевич…
– Просто Иван.
– Иван. Да. Если почувствуете себя резко хуже, хотя, поверьте, в ближайшее время ничего подобного происходить не должно, однако всякое может быть, но мы будем надеяться… Вы звоните сразу мне на мобильный. Не стесняйтесь. Я мобильный на ночь не выключаю. И не отчаивайтесь. Главное, гоните от себя дурные мысли.
– Хм…
– Прислушайтесь к моему совету. И тогда все, возможно, наладится. Как у моей жены. Должно наладиться. Хорошо-хорошо, не будем пока. Сейчас следует собраться с силами, с мыслями, ну и вообще.
Он стучит по столешнице и вспоминает:
– А адресок-то пражский?! И номер мобильного… Забыли. Что же вы молчите, не напоминаете. Скромность, она при сватовстве хороша, да и то у девок. Вы уж простите мне невзыскательность шутки. Тоже, поверьте, совсем непросто такие разговоры даются, вот и съезжает планка. Вот и съезжает.
Утонченному перу «монблана» непривычны и крайне противны большие кривые печатные буквы. Видимо, доктор считает меня еще и подслеповатым. Перо отчаянно скрипит, решило, наверное, что достаточно с него накопившегося стыда, натерпелось. Или в курсе, какие темные делишки вершатся в этих стенах, поэтому хочет «сохранить лицо», хотя бы отчасти. Однако порхало же ласточкой как ни в чем не бывало по выдуманной истории несуществующей болезни! И такое вот с бухты-барахты раскаяние? Все может быть. Один мой знакомый называет этот феномен пластилиновой моралью. Полагает это новаторством. Не явление, а определение, которое он придумал для вечного как мир блядства.
Я дразню его смыслотехником.
Лицо у пера хитрое, вытянутое, лисье. И цвет лисий. Выгоревшей лисы, степной. Пал Палыч аккуратно завинчивает колпачок то ли грешницы, осознавшей глубину своего падения и не желающей продолжать полет, то ли просто лентяйки. Также могло случиться банальное – чернила закончились. Увы, начинать с простого – это не мое.
Доктор сверяется с дисплеем мобильного. Тот подл по-своему: стоит доктору прочитать первый слог, тут же гаснет. Скорочтение, похоже, не самая сильная сторона Пал Палыча. Он вынужден опять что-то нажимать, промахивается, нажимает не то, что намеревался… Что за пальцы берут в качестве образца производители современных гаджетов? У меня точно такие же трудности. И я далеко не так терпелив и упорен, как доктор. Пал Палыч возмущенно сопит, но на слова жаден. Мне хочется ему подсобить парой фраз, но боюсь оказаться неверно понятым.
Наконец адрес дописан, правильнее сказать, «дорисован» простой шариковой ручкой, первой попавшейся под руку. Эта ручка непритязательна, без понтов, она прямо создана для обмана. В свое время я такую же подсовывал маме, когда отдавал на проверку дневник. Надеялся, что потом проще будет подделать подпись на записке, объясняющей прогул недомоганием, вышедшим из строя дверным замком, уходом за разболевшейся бабушкой. Не зря, надо признать, надеялся. Мамина подпись в моем исполнении выглядела весьма убедительно. Сейчас уверен, что зря перестраховывался: ну кто бы из учителей стал сверять цвет? Будто на весь дом одна ручка? Тогда же казался себе просто Штирлицем! Все хорошо, вот только маму по недоумию не принял в расчет, ее удивительные способности. Помню, когда первый раз рисовал мамин автограф, легкая ручка показалась мне очень тяжелой… Интересно, а сколько весит перо, подмахивающее приговор? А невысказанная подлая мысль? Какова ей цена? Такая же, как у подлой мысли, вырвавшейся наружу? Или другая? Больше или меньше? Обнародованная подлость, она дороже совершенной в душе? Или дешевле?
«Подлость бесценна, сынок. Она ничего не стоит. Как и жизнь подлеца. Это тоже своего рода дар – творить подлость. Роковой дар».
«Вот дотянусь сейчас до стетоскопа…»
«И по заднице себя, по заднице! А-та-та! А-та-та!»
«За что, мама? Зачем?»
«Затем, сынок. Так будет правильно. Затем, что я – мама. Мама редкостного оболтуса. И краснобая. Тоже мне, философ-разговорник!»
«Ну, извини».
«Что уж там, извинёныш».
«И попрошай».
«Помню, но еще не решила. Кстати, похожие клички охотники, из чтущих традиции, дают гончим кобелям – Заграй, Заливай, Добывай…»
«Я правильно угадал, какое слово важней других?»
«Не вижу смысла отнекиваться».
Мухи не слышно. Либо разбилась, либо прорвалась на волю. Но это вряд ли, из пробитой в стекле дырки уже бы сквозил и посвистывал морозный воздух. Да и не ускользнула бы от моего внимания удачная лобовая атака.
– Иван…
– Да, доктор, я теперь лучше пойду. Я все запомнил.
– Главное, не теряйте…
…Надежду, голову, кошелек, документы, талон от парковочного места… Потому как за утрату талона положен штраф, а ты кошелек раньше посеял. Или доктор о самоубийстве? Вот это совсем не по адресу, просто мимо. Хотя ему-то откуда знать? Онкобольные, я читал, нередко склонны к такому исходу. Настоящие больные. У кого по-настоящему один картонный шанс против железобетонных девяноста девяти, то есть без вариантов.
Лично я угадываю причину самоубийств отнюдь не в том, что человек вдруг решил отказаться от жизни. Все наоборот. Это жизнь отказалась от человека, и ему отчетливо дали об этом знать. Каким образом – не столь важно. Как мама меня назвала? Философом-разговорником? В точку. Чего стоит весь этот обласканный самолюбованием бред с потугой на мысль? Хм… Для нас, жизнелюбов, ровным счетом ничего. Но остальные об этом не знают. Что там доктор сказал не терять? Будем считать, что чувство юмора.
«И меры. Шикарно. Самое время выходить на поклоны».
«Уже иду».
– Не потеряю, доктор. Можете за меня не беспокоиться.
– Ну, совсем не беспокоиться не получится. Мы теперь вместе одному злу противостоим. Вы же понимаете, о чем я?
– Надеюсь, что да.
Я физически ощущаю, сколько всего во мне переменилось за промелькнувшие полчаса. Мухой промелькнувшие. Как там она, упертая? Валяется, поди, с сотрясением на подоконнике. Я тоже не в лучшей форме. Там, где раньше ничего не чувствовал, то есть никаких неудобств, уже не говоря о боли, теперь воцарилась неловкость. Где спохватился взрастить хоть что-либо не упадническое, например, веру в свои силы перебороть недуг – пустота, форменное ничто. Все-таки я, факт, не бездарен!
«Мам, только не напрягайся… Ответь по чесноку: в тридцать лет это нормально – поступать в театральное?»
«В тридцать лет нормально иметь работу, семью и хоть какие-то цели в жизни».
«Аминь… Благодарствуйте».
– Вы же человек стойкий, Иван, можно сказать, герой!
Доктор многозначительно смотрит на лацкан моего кардигана.
Я прослеживаю его взгляд. Бог ты мой! Натурально орден Красной Звезды. Но тогда почему лучи белые? И вместо человека с ружьем – баба какая-то. И в руках у нее – чур меня… – весло! Господи, а бедра-то какие крестьянские, конь-огонь… Новенький такой, не залапанный орденок. Тяжеленький – петля кардигана вниз поползла. Возможно, вообще оборвалась. Нить оборвалась. И на таком видном месте. Ну что за напасть! И не заштопаешь. Даже Люся из «Рукодельницы» не справится. Елки-палки, у меня что, ко всем бедам еще и в мозгу опухоль?
«Как ты сказал? Где? В мозгу? Неоправданно завышенное мнение о себе».
«Ты уже говорила сегодня про манию величия. Повторяешься».
«Вслед за тобой, Ванечка. Вслед за тобой. Бедра, кстати, у барышни первоначально были совершенно нормальными. Но Филипенко, ты его знаешь, иногда своевольничает, изгаляется. Выковал – или чего он там делал… – центральный фрагмент ордена овальным. Пришлось сплюснуть. Ну да, девушка не фотомодель, согласились. Всё потому, что на скорую руку».
«Экспромт?»
«Он самый».
«Тогда простительно».
«Как назвали награду?»
«Не успели».
«Орден Белой Звезды. Присваивается гребцами-байдарочниками всем остальным».
«Громоздко».
«Экспромт».
«Тогда простительно».
Я прикрываю орден ладонью. Лодочкой, будто живое.
– Ну уж чего-чего, а геройства стесняться не следует.
– Да я как-то… Пойду уже.
– Ступайте с богом.
– Голубчик.
– Как вы сказали?
– Слово понравилось: «голубчик».
– И мне нравится. Хорошее слово, доброе.
– Докторское.
– Ну да, ну да.
Как колбаса. Вопрос на засыпку: если начинить голубца-голубчика не мясом, а обрезками докторской колбасы, вытошнит или нет?
«Вырвет. Даже не пробуй. Как пить дать, вырвет. Но если приспичило продемонстрировать характер, как ты любишь, то можешь проверить. Какой же ты еще у меня незрелый!»
«Ты сама учила, что настоящая зрелость…»
«…наступает тогда, когда приходит осознание счастья…»
«…от наделанных в молодости глупостей. А я ни о чем не жалею».
«Ну и хорошо. Выходит, что молодость твоя еще не окончилась, Болтун Болтунович».
За спиной чавкает убравшаяся в косяк дверь, я придирчиво осматриваю одежку, прежде не знававшую никаких знаков отличия. Все как и было, даже провисшей петли нет, тем более порванной нити. На всякий случай глупо разглядываю ладонь, словно орден мог перекочевать на нее в виде черной метки, присланной вероломно покинутой спортсменкой-байдарочницей. К счастью, в моей донжуанской галерее таких трофеев никогда не водилось. Слишком плечистые, шаль не набросить, только плед. Плечистые и наверняка чрезмерно выносливые.
«Да-а, дорогая мамулечка, с тобой не соскучишься».
«С тобой, сынок, тоже. Ну чего ты туда потащился? Знаешь же, что не может, не мо-жет никакая болезнь с тобой приключиться. По крайней мере, пока я о тебе забочусь».
«Представь на минуточку, что так и было задумано: попробовать, как это… когда позаботиться некому? Да нет же, не в том смысле…»
«Н-да, формулировать ты горазд. Попробовал?»
«Ну да. И все, кстати сказать, нормально получалось. Пока ты с орденом не подоспела».
«Миру – мир, фарсу – фарс. Отличная награда. Или не пришелся орденок? Слишком уж ты, Ванюша, впечатлительный у меня. И увлекающийся. Останавливаться вовремя не умеешь. Ведь не подумал беспечной своей головой, что запросто мог бы “надумать” себе болячку. Сплошь и рядом такое случается. А мне потом маяться. Кто знает, как справляться с недугом, который из мыслей в тело перекочевал? С тем, что, по сути, сам на себя наслал? Я ведь не всесильная. Ну да ладно. Будем считать – обошлось. Какие теперь планы?»
«Попробую денег на Прагу найти».
«Ты еще не устал? Вижу, нет. Не наигрался. Решил продолжать».
«Не-а. В смысле, и не устал, и не наигрался. Отличное может выйти приключение. Заграница опять же. А доктору, если “выкарабкаюсь”, премия. Или с премией я загнул?»
«В общем и целом. Кстати, где предполагаешь деньгами разжиться? Ломбард? Может, лучше я, раз уж…»
«Можно ты не будешь вмешиваться?»
«Как пойдет».
«Хорошо пойдет».
«Ну-ну».
«Очень тебя прошу. Могу я рассчитывать на подарок к тридцатилетию?»
«Ладно, уговорил. Пусть будет ломбард».
«Я не только об этом».
«Я поняла. Обещаю сдерживаться…»
«Не вмешиваться».
«Сдерживаться. Заглянешь?»
«Конечно. Завтра. Ты же знаешь, что загляну. Сегодня вымотался. Выжат как тряпка».
«Охотно верю».
«И у Дяди Гоши, наверное, ум за разум заходит, куда я запропастился».
«Очень я сомневаюсь насчет ума у Дяди Гоши, а в разуме так просто отказываю. Поверь, я знаю, о чем говорю».
«Люблю тебя».
«Я тебя тоже».
«Да, чуть было не забыл… Правда, что ассоциация акушеров покупает спортивное общество “Уро-жай”?»
«Ты неисправим. Размениваешь себя на всякую белиберду».
Действительно. Столько правильных мыслей было о Милене, а свалил как с пожара, даже шаг не придержал возле сестринской. Разбазариваю себя почем зря. Размениваю, а что наменял – разбазариваю.
Тем временем доктор Пал Палыч, чрезвычайно собою довольный, выдвинул нижний ящик стола, самый высокий, специально для картонных скоросшивателей. В нем он хранил то, что заслуживало сокрытия от бесцеремонных коллег. Стол воспринимался как личное имущество, и шарить в нем возбранялось традицией. В ящике у Пал Палыча всегда был заначен коньячок. Пара-тройка бутылок отменного качества. Образцы настоящих произведений искусства. Подношения от пациентов, чаще от их родственников. К слову, выпивке попроще, рангом ниже «ХО», места в столе не было. С ней доктор расставался легко, благодаря чему слыл в отделении человеком щедрым и довольно широких взглядов. Проще говоря, чудаком, у которого завсегда, несмотря на статус заведующего, есть чем разговеться. Или поправиться. Словом, поживиться. Даже если ты разнесчастный интерн. Правда, сам он никогда за компанию не употреблял. Уклонялся вежливо, но веско. Коллег Пал Палыча в такие моменты отличал особенный такт. Они не настаивали.
Пал Палыч в принципе крайне редко позволял себе выпить во время рабочего дня. Да и «выпить» – это сильно сказано. Капнет в кофе три слезки для запаха – вот и вся доза. Спиртное держал не столько для себя, сколько для посетителей и их близких. Если видел, что рюмка-другая редкого, выдающегося напитка хоть как-то поможет им справиться с горькой вестью. Успокоит, согреет, отвлечет ненадолго. Главврач пару раз по-товарищески пенял ему на странные методы и, несвойственно возвысив голос, укорял нарушением этики. Оба раза извинился за вспыльчивость, жизнь, мол, замордовала. И без особых церемоний принял из рук подчиненного «успокоительное». Пал Палыч подозревал, что второй срыв был искусственным. Наверное, зря: главврач отнюдь не был обделен щедротами граждан, чьи обстоятельства привели их в больничные стены. Правда, жена главврача работала в бухгалтерии и частенько наведывалась в кабинет к мужу. Без стука. Сплетни ходили, что алкоголь она изымает железной рукой и относит каким-то барыгам. Пусть так. Трое сыновей, и все трое врачи в государственных клиниках, а подвижничество испокон веку дорого обходится семьям.
В отличие от начальства коллеги, уступавшие Пал Палычу в статусе, журили его за расточительность; разумеется, за глаза. Они были убеждены, что и без того делают для больных больше, чем им, врачам, оплачено государством. И значительно больше, чем пациенты того заслуживают. А посему дополнительные траты в виде безоглядной раздачи часто незаменимого продукта полагали непростительным перебором.
Случалось также, что ехидничали насчет погони Пал Палыча за «дешевой», а главное, «совершенно бессмысленной» популярностью. Так несправедливо персонал отделения оценивал необычную обходительность своего босса с родственниками больных. Отчасти коллеги Пал Палыча были правы. По меньшей мере, насчет бессмысленности. За всю историю отделения, каковым заведовал Пал Палыч, никто из родни покинувших мир граждан и гражданок не обратился за помощью к тем же врачам. Разве что злая болезнь старательно обходила их стороной. Вроде как «эта семья норму сдала»… Но тогда получается – не такая она, болезнь, и злая. Что видится еще более странным: статистика в онкологии – сплошные потери в живой силе.
Пал Палыч тем не менее упрямо гнул свою линию. Спорных привычек он не менял и, ко всем прочим своим достоинствам-недостаткам, виделся докторам-коллегам непреклонным упрямцем. Тем самым докторам-коллегам, которые взахлеб возносили зав. отделением за щедрость и широкие взгляды. Эдакий широковзглядый и щедрый упрямец.
Зато кураторы из Минздрава полагали заведующего человеком с собственным мнением и при этом душевным. Они не вдавались в суть местных интриг и после протокольных визитов в пораженный палочкой абстиненции кабинет главврача с нескрываемым удовольствием заглядывали «на чаек» к Пал Палычу.
Надо признать, что реакция коллег на некую обособленность Пал Палыча была незлобивой, вполне себе дружеской. Сказано же, что чудак, а какой чудак без чудачеств? Необычная для тружеников лояльность коренилась все в той же не раз упомянутой отзывчивости вкупе с глубоким пониманием тягот синдрома похмелья. Проще говоря, в доносах и кляузах, чье тематическое и адресное разнообразие давно заслужило статус «мульти», Пал Палыч не фигурировал. Только в «шапке», если писали ему. Так что по совокупности позитивных причин зав. отделением без долгих проволочек был вписан в число соискателей должности главврача. Нынешний громовержец больницы неожиданно резко сдал. Шунты, байпасы, простата, геморрой, позвоночная грыжа – все возбудилось в нем разом, и главврач попросился на пенсию. Сам. Чем несказанно удивил всех и вся силой духа, что у подкаблучников большая редкость. В больнице о нем сразу заговорили с придыханиями и до крайней степени уважительно. Отдельные труженицы и вовсе растрогались: святой, говорили.
Сложись столь трепетное отношение к главврачу раньше, шунтов и байпасов он бы мог избежать. Запоздавшее признание – всегда чудовищная несправедливость. Даже незаслуженное. С заслуженными та же история.
Быстрых перспектив Пал Палычу никто не сулил, в списке он числился третьим. На непраздный вопрос доверенному человеку: «Алфавитный ли заведен порядок, или?..» получил исчерпывающий ответ: «Правильно мыслите: “или”». Намекнули при этом, что «работать есть над чем». Тавром «безнадега» одарили кого-то другого. Можно было предположить, что конкурс готовится честный, но в инопланетян Пал Палыч не верил.
– Есть над чем, есть над чем… – бурчал доктор под нос чужие слова, зависнув над ящиком.
Он вдумчиво выбирал, чем конкретно себя нынче попотчевать. «Хорошая выпивка – радость в кубе» – говаривал его отец, большой любитель самодельных присказок. Вдруг в милые сердцу раздумья щепкой вонзилась мысль иного порядка. В который раз за последние две недели Пал Палыч неприятно подумал, что в борьбе за призовое кресло ему отвели роль кота, избавляющего от дремоты заматеревших мышей. Ведь это он был самым молодым претендентом. Для старпёров из министерских кресел это означало – самый неопытный. Неважно, на каком поприще – аппаратном или же медицинском. Самый неопытный и всё тут. Наверняка о своей роли в предстоящем спектакле Пал Палыч не знал – кто о таком прямо в глаза скажет? – но беспокоился.
Беда таилась в вероятности проиграть конкурс и оказаться в совсем некомфортной ловушке, если за «комфортную» принять клетку с кормом и пойлом. Точнее – в одной из трех, предсказанных раздумьями Пал Палыча.
Первая сводилась к возрасту конкурентов. Три прочих соискателя на десяток лет, плюс-минус год, раньше Пал Палыча осчастливили мир своим пришествием. Если Пал Палычу не вытанцуется победить, то сидеть ему на отделении и сидеть, пока залысины в воротник пиджака не уткнутся. Кресла замов конкурентам не предлагают – тон хороший, но и дураком не надо быть.
Вторая смена силков также была косвенно связана с возрастом: пока дело дойдет до следующего конкурса, траченные молью тела министерских ретроградов отволокут на погост, грянет новая смена, и она захочет новых людей или старых своих, в список которых Пал Палыч при всем желании вписаться не сможет. Смысла не будет идти на выборы. Участие штатной мартышкой в череде представлений – стыдное дело. Медики страшно далеки от партийных традиций.
Последняя из ловушек была хуже всех. Она до нестойких колен пугала воображение заведующего отделением. Пал Палыч не сомневался, что его нынешнее кресло молниеносно опрокинется вместе с телом, стоит новому главному прослышать о том, что натворил заведующий отделением онкологии. А если кто до деталей сделки докопается… «От козни до казни всего одна буква» – изрек бы на этот счет родитель Пал Палыча. От совершенно ничем не оправданной неприязни к отцу уголки рта Пал Палыча мстительно сместились вниз, поддержав недобрый прищур, но лишь на мгновение. Доктор опомнился и даже прошептал, зажурившись:
– Прости дурака, папа. Не знаю, что на меня нашло.
«Да будет тебе убиваться, – откликнулся в голове другой Пал Палыч. Тот, что посмелее. – На попятную идти поздно. И игра стоит свеч».
– Всё так, всё так…
Пал Палыч поймал себя на том, что говорит вслух, точнее шепчет. И шепчет неуверенно.
«Шепот странная штука, – подумал об отстраненном. – Но и он может быть убедительным. “Стоять, не двигаться”!»
Эта команда была не единственной, пришедшей на ум Пал Палычу. Но «Лежать и двигаться!» он определил в качестве «приза», который сулила ему история, в каковую он вписался со всей несвойственной ему неосмотрительностью.
«Лежать и двигаться… нижним…» – видоизменил Пал Палыч формулу успеха на противоположную и почувствовал, как очутился намного ближе к реализму, чем минуту назад. Можно сказать, впритык подошел.
«А все эта история с доносом на главного в министерство. Нужно было продумать способ отбояриться. Не стоило соглашаться писать, подписывать. Рассказал как смог, а дальше сами…» – проныло слева в груди заезженное.
Он заставил себя подумать о том, что в министерстве народ тертый, доки по части интриги.
«Целым народом рулят. При этом если разобраться, то сплошной пиар, а не медицина. Все сокращают и сокращают, а почитать-послушать – встать хочется в знак особого уважения и признательности. И уж верность ценят превыше всего. Оттуда ведь указали: вписать в чисто претендентов. Заартачишься, закапризничаешь – с ходу спишут в утиль. Наплевать на положение, на квалификацию, на то, что в расцвете сил, наконец. А в Америку не зовут. Даже в Польшу не зовут. Не зовут! Потому канцелярскую шушеру и зовут крючкотворами, что все подчиненные должны быть у них на крючках».
Определив себя в немаленькую такую компанию, Пал Палыч успокоился. Как волной смыло расстройство.
«Надо в анализ крови внести тест на коллективизм. У меня зашкалит», – пронеслась кометой язвительная идея, но сердце не поразила.
Нынче Пал Палыч не был расположен к самоедству. Просто само собой вышло, что расслабился на минутку. Или наоборот – собрался? Напоследок он напомнил себе, что выбора в принятии добровольного решения ему не оставили. И совсем отлегло.
«Время покажет» – слукавил он перед собой напоследок и привычно, но неэлегантно протер полой халата изящную рюмку. Наверное специально, чтобы в очередной раз вспомнить отца и его шутливый и многозначительный стишок: «Собирателям нектара бог дал маленькую тару».
Прямо бенефис случился сегодня у родителя Пал Палыча. День Пал Палычей.
Сегодня у младшего Пал Палыча был повод для маленького торжества, и он, поборов недобрые думы, в конце концов остановил свой выбор на коньяке с заковыристым названием «Курвуазье». Добродушно, без тени раскаяния подумал, что есть в его предпочтении перст судьбы – названьице заморского напитка слегка отдавало продажностью. Если, конечно, фантазию применить. Или немного «за уши притянуть». Доктор и применил, и притянул. Даже вспомнил свой единственный опыт с куртизанкой и страхи, обуявшие утром на трезвую голову. Именно в тот день, давным-давно, он решил, что обильные возлияния – это не его, на глупости тянет. Надо отдать должное, что все последующие глупости доктор совершал исключительно на трезвую голову.
– Ну уж это мы мóгем, нам к такому не привыкать… – бодро в пустоту высказался Пал Палыч. Дабы всколыхнуть ее, пустоту, вдруг ставшую ощутимой. Поэтому не стал задумываться, о чем, собственно, высказался. О продажности? О фантазии? О «за уши притянуть»? Наверное, обо всем сразу.
Доктор на две трети наполнил небольшой хрустальный сосуд, покрутил в пальцах, придирчиво разглядывая на свету. Рюмка была принесена из дома. Старинная, ручной резьбы, не какая-то там нынешняя штамповка. Так жизнью заведено, что в хлебосольных домах, в скандальных семьях или просто у людей небрежных и безразличных к материальным наследиям, однажды из некогда дюжины рюмок остается одна, в лучшем случае – две. Дом Пал Палыча посетил лучший случай, вот он и поделил хрусталь между домом и службой.
«Лепота!» – отозвалась душа по-старинному. Вполне созвучно обстоятельствам, если считать прародителем коньяков винный дистиллят, каковой еще в семнадцатом веке научились готовить в хозяйствах французского Пуату-Шаранта. Совсем на себя не похоже, в предвкушении выпивки Пал Палыч облизал губы. Тут, как назло, и раздался звонок по городской линии. Да и то сказать: «под руку» вышло бы еще хуже. Лучше вообще без удовольствия, чем удовольствие смазанное. Как ночь с трансвеститом. Пал Палыч недовольно поморщился, но рюмку отставил. Дал телефону побренчать еще раз и снял трубку.
«Дорогой вы наш доктор…» – услышал он без труда узнаваемый голос, тут же подобрался, даже зачем-то очки на нос водрузил. Нужды в очках не было никакой, никто не попросил его почитать по телефону вслух. Тем более что до ночи было еще так далеко.
– Да, уже ушел. Буквально только что. Перед тем как сообщить, хотел еще раз пройтись… Взвесить, оценить… Ну чтобы вот так безапелляционно? Пожалуй, я бы предпочел более осторожные формулировки. Однако смею надеяться, что вы правы. Как вы сказали?
Если бы в кабинете доктора оказался невольный свидетель этого телефонного разговора, то он, внимая лишь одной стороне, счел бы ответ Пал Палыча на неведомый вопрос не самым удачным. Хуже Пал Палыч ответил, чем от него ожидали.
– Ну не знаю… – сказал доктор будто сам себе.
Непонятно было: в трубку ли, или так вышло, что она случайно оказалась у рта. Вместе с этим по лицу Пал Палыча промелькнуло недоумение. Почти что обида. Слившись, эти чувства оставили след в виде бровей, приподнявшихся и застывших на мгновение печальными домиками. Затем брови вернулись на место. Им наследовали плечи. Они приподнялись и опустились, неслышно ведя недоступный вовне диалог. Наконец Пал Палыч покачал головой, на что-то решаясь, и только тогда произнес в трубку:
– Ну, хорошо, если вам так угодно, то да. Да, я отвечаю за свои слова. Будем считать, что все получилось. Поймите… Я все сделал так, как мы договаривались. Он стойко принял новость, но и подавленности не избежал. Нет, конечно же исключено, он ни о чем не догадывается. Помилуйте, так не сыграть. И, главное, смысл? Зачем? Повод? Есть препятствия материального свойства… Как вы себе это представляете? Одолжить ему? Ну, это, простите, выглядело бы крайне нелепо. Это ли не повод для подозрений: врач ссужает деньгами своего обреченного пациента. Не хочу вас обидеть, но это индийское кино какое-то… Да-да, все именно так и обстоит. Я рад, что вы переменили мнение. Да, он со всем согласился. Пражский адрес взял. Но… Вы же понимаете, что гарантий я дать никаких не могу. Такой диагноз – это тяжелая травма для психики. С чем он завтра проснется, только господь ведает.
Заключительные слова дались доктору легче легкого. Он вдохнул, выдохнул и заметно расслабился. Даже позволил себе мальчишескую выходку: коротко показал телефонной трубке кончик языка, «накоси-выкуси». Неизвестно, что изменилось на другом конце провода, но на этот раз ответы Пал Палыча абонента, по-видимому, устроили. Возможно, звучал доктор более собранно, бойко, даже нагловато. Встряхнулся к концу разговора. А про гарантии… В конце концов, вполне обычный для докторов ответ – про гарантии. Особенно для онкологов. Пал Палыч не юлил.
Врачи вообще не юлят и не врут, это пациенты обманываются.
– Теперь о вашей просьбе, Пал Палыч, – сообщили доктору ободряющим, уверенным тоном с другого конца линии. – Мы тут подумали и решили, что вполне можем устроить вашим конкурентам… Впрочем, это не так важно – что именно. Да и вам, пожалуй, лишнее знать будет обременительно. Важнее, что в конечном итоге именно вы займете кресло главврача. Поверьте: еще никому и никогда мы не давали повода сомневаться в верности обещаниям. Вообще в нашей обязательности.
– Я и не сомневаюсь. Верю, – с готовностью и в высшей степени убедительно поддержал собеседника Пал Палыч.
На долю секунды он ощутил странное чувство, что сейчас, именно сейчас, возможно, самое время начать сомневаться. Но чувство возникло и вернулось туда же, к истоку, как и не было его.
– А в качестве бонуса похлопочем о титуле. По неофициальным – надеюсь, вы понимаете? – каналам. В очень официальных местах. Вы ведь, если не ошибаюсь, не чужды… Хм… А по официальным каналам в других высоких инстанциях… – землицы выхлопочем. Есть еще на новорижском наделы, коими казна вправе распорядиться, не привлекая внимания завистливой общественности. Хорошая, можете мне поверить, земелька. За очень разумную цену. По нынешним временам – даром. Само собой разумеется, деньжатами на покупку ссудим. Оформим кредит под одну десятую процента, процент исключительно для бумаг. Оформите сделку, продадите один – полтора гектара из своих четырех, погасите кредит, как и не было его. Еще и на особнячок останется. С хозяйственными постройками, да жильем для челяди… Кстати, как вам, допустим, граф? По-моему, звучит. Для реальной жизни – ничто, но, согласитесь, приятный пустяк. Кресло в Дворянском собрании. К тому же сам Петр Алексеевич титул ввел. Вам, как петербуржцу, томящемуся в Москве – томитесь ведь? Ну же! – должно быть небезразлично. Вот и славно, что томитесь. Вполне разделяю. Почти каждый выходной домой мчусь… Первым же графом на Руси, если вы не осведомлены о таких частностях, стал Шереметев Борис Петрович. Бросьте, не захваливайте, это мне справочку подготовили. Да и к чему это я в лекцию ударился? Скажу проще: сиятельная, друг мой Пал Палыч, доложу вам, будет у вас компания. И поместье по чину.
Если бы абонент видел в этот момент лицо Пал Палыча, то, весьма вероятно, отметил бы для себя: пусть российская государственная медицина и привлекает людей романтического склада, однако же материям приземленным они вовсе не чужды.
– Теперь о деле, – выдала трубка гораздо суше, чем все предыдущее.
На Пал Палыча, впрочем, смена тона не произвела особого впечатления. В жизни он много раз участвовал в душевно-деловых разговорах с начальством, в ходе которых рыбацкие байки перемежались с делами важными, а то и дружескими просьбами, отказать в которых себе дороже, потому что они более ответственные, чем иные официальные.
На секунду Пал Палыч убрал трубку от лица, чтобы скрыть от собеседника вздох, но тут же вернул ее на место, попеняв себе за секундную слабость. Слышать о «деле» ему не хотелось. Само «дело» ощутимо попахивало, а посулы… До них еще надо дожить. Зато если все сойдется-сложится…
– Я весь внимание.
– Это правильно. Если надо будет связаться, загляните в центральный ящик своего рабочего стола. Там найдете мобильный телефон. Аппарат заряжен, симка на месте. Номер вы знаете. Это сумма гонорара, которую вы запросили в денежном, так сказать, выражении. Простой номер, не ошибетесь. Префикс набирать не забывайте. Кстати, префикс в сумму гонорара не входит. Ха-ха! Что «когда найдете»? Прямо сейчас. До связи, доктор.
К удивлению Пал Палыча, телефон в самом деле обнаружился там, где и сказали – в замкнутом на секретный замок среднем ящике стола. Надо было сильно постараться, чтобы обнаружить саму личину замка, не говоря уже о подборе ключа. Ключ и на ключ-то совсем не похож.
Пал Палыч придирчиво осмотрел замочную скважину. Ни следов взлома, ни вообще каких-либо новых следов, наряду с застаревшими царапинами, он не обнаружил. Не понятно было Пал Палычу: радоваться ему следует или грустить? Он проявил завидную смекалку и, вопреки здравому смыслу, готовому изгадить и без того не заладившийся вечер, выбрал позитивную сторону. В самом деле: ну подумаешь, кто-то прокрался в его тайник? Он теперь и не тайник более, а, значит, и тайн у его хозяина нет. Открытый человек. Нараспашку. Такое нынче – штучный товар.
«Ну почему, мысль здравая, а как говном в лицо?!» – поморщился.
Хитроумное устройство лет пять назад изобрел и встроил в начальственный стол пациент Пал Палыча. Отблагодарил за то, что заведующий отделением, вопреки заведенному ходу событий, не отправил его домой в Тмутаракань помирать. Койку дал и какой ни есть рацион. Рацион в самом деле был «какой ни есть». Ни есть, ни нюхать, ни даже смотреть на него радости не доставляло. Однако в Тмутаракани и этого был бы мужик лишен. Так что дожил он вполне сносно. И память Пал Палычу о себе оставил. Целых две памяти. Чудо ремесленной изобретательности и теорию «резкого выпаривания природой» спиртного из однажды откупоренной тары. После трудов потомка Левши в кабинете Пал Палыча и впрямь призывно попахивало.
Ключ от секретного ящика Пал Палыч никогда никому не доверял. Запасной ключ, как только была выполнена работа, он поместил в банковскую ячейку. О ней даже домочадцы не знали. Один из ящиков двухтумбового стола, выглядевший снаружи вполне заурядно, по прихоти русского мастерового стал небольшим, но вполне надежным сейфом. В нем доктор держал приличную сумму наличности, пару доз отличного качества кокаина и пистолет Макарова со спиленными номерами. Оружие преподнес вылеченный и «век благодарный» авторитетный предприниматель. Там же хранилось и несколько памятных фотографий, которым не следовало приближаться к семейному очагу. Очаг ведь, спалиться – раз плюнуть! Довершал скрытую коллекцию нехитрый набор личных вещиц. Немудреный арсенал джентльмена, не чуждого сходить налево, однако не желающего осложнять жизнь ни себе, ни близким. Ни случайным знакомым, ни давним и совсем не случайным. Нычка, одним словом, к которой чужим хода нет. Не было до сих пор.
Пал Палыч включил телефон. «Заряжен. Зарядного устройства нет. Значит, на частые звонки не рассчитан. Оно и к лучшему». Он подождал, пока аппарат наткнется на пригодную сеть. Еще не совсем понимая зачем – «Скажем, проверить, есть ли такой номер?», – он набрал префикс, затем двадцать и два раза по два ноля. Или двойку и пять нолей, так Пал Палычу считать было проще. И приятнее.
– Есть такой номер, Пал Палыч. Есть, не сомневайтесь, – тут же отозвался не успевший выветриться из головы голос. – И насчет содержимого ящика волноваться не следует. Все, как вы изволили убедиться, в нетронутом виде. Сугубо между нами… По-товарищески, так сказать. Кокс еще туда-сюда. Правда, я лично не пользую, не одобряю, но и не борюсь. Может, вы и не для себя… Ну вот, я так и подумал. Совсем другое дело – ствол. Вы же интеллигентный человек! Ну в кого вы будете шмалять, как выразился бы даритель оного раритета. Конечно, если он вам так дорог, то храните себе на здоровье… Забавно получилось: ствол на здоровье… Хм… Но я бы сплавил его в речку от греха да от чужих глаз-носов подальше. Тем более хозяина его бывшего вчера дома нашли задушенным. Да нет, не волнуйтесь. Какое, право, это может иметь к вам отношение? Последствия? Наивный вы человек… Какие еще последствия? Где вы, а где он! Особенно теперь. Опять забавно сказал. Как-то вдохновляюще вы на меня действуете, это комплимент….И правильно, что ничего не знали. К чему вам о таких вещах знать? По большому счету, это и не наше дело. Случайная информация. Мусор. И человек, к слову, был сорный. Заслужил. Конечно, не колготки на горле… Колготки – это совсем не комильфо при его-то нынче былой тяге к стилю. Даже не гаррота. А пижоном покойный был знаменитейшим! Это не наше дело…
– У меня и мысли такой не возникло!
– Вы о чем сейчас, Пал Палыч?
– У меня, говорю, что… и мысли не было как-то связывать кончину, гибель… смерть этого человека с вами.
– Очень хорошо. Это абсолютно правильно. Только вы дослушайте, любезный Пал Палыч. По большому счету, это не наше дело, но из чистой любезности мы проверили: пистолет чист. Вот я о чем. Теперь дошло? А вы что подумали?
– Как можно было проверить, если на нем номера спилены? – удивился Пал Палыч, не реагируя на вопрос. За секунду до этого данное себе слово уже ничему в жизни не удивляться было стремительно взято назад.
– Контрольный выстрел. Потом с пулей в лаборатории поработали. По всем базам прогнали. Рутина. Вы же смотрите сериалы? Должны смотреть. Зна-ем, что смотрите. А чтобы побыстрее, ну чтобы время сэкономить и в то же время с пользой для дела, мы в приемном покое в вашу старшую сестру выстрелили. У нее на вас серьезные виды. Не ровен час досаждать начала бы. Женские приставания на службе… Это же кошмар, катастрофа, люди совершенно наоборот будут думать, так природой заведено. Пал Палыч, да шучу я! Насчет стрельбы по живой мишени шучу! Все остальное – истинная правда.
«Странно, но в ящике совсем нет запаха пороха», – отстраненно подумал Пал Палыч и удивился тому, что высказал недоумение в трубку. Шутка по поводу стрельбы в персонал его совсем не потешила. Ему сильно захотелось, чтобы вся эта странная история с пистолетом оказалась досужим вымыслом. Непременно с доказательствами, что это имен-но вы-мы-сел! Одних слов Пал Палычу было бы мало. Доказательства же, пусть и косвенные, как раз намекали совсем на обратное. Тамару, старшую сестру отделения, он не видел с позавчерашнего вечера. Вроде как приболела. Так ему утром сказали. Но ничего конкретного – что приключилось? И почему сама не позвонила? Раньше звонила. «Надо ее по-домашнему набрать. Или лучше не надо? Нет, правда, не пахнет из ствола… Вы-мы-сел… Сел… Факт, можно сесть. Вот влип!»
– Нет запаха? Так ведь и трупа старшей сестры ни в столе, ни на столе нет. Не обижайте нас, доктор, мы не дилетанты. Прибрались за собой, все почистили. У Тамары, к слову, гланды. Надо было в детстве удалять. Тогда мороженое было вкуснее, а его после операции давали. И вес набрать от сладкого еще не боялась. Теперь вот голос совсем потеряла, поэтому звонка не ждите. Да и вам ее с недельку беспокоить не стоит. С бабушкой ее можете поговорить, если захотите. Старушка не очень-то словоохотлива и вообще несколько не в себе. Однако воля ваша. Вот еще что. Пока нет Тамары, вы ревизию в ее хозяйстве затейте. Вам на пользу пойдет. По крайней мере не потянете за собой наверх человечка, который вас может подставить. Ну и вообще… Уж извините, что в личное вмешиваюсь. Вы, конечно, человек обстоятельный и разумный, так ведь нечеловечески хороша, чертовка! Можно и не устоять. Не благодарите. Пустячная любезность. А хотите номер скажу, который был спилен?
– Спасибо, ни к чему мне. Чист, и ладно. И… вы правы. Дважды правы. И по поводу пистолета. Мне он совсем не нужен. И… насчет того, что зарядку для телефона не оставили. Батарея хоть и усиленная, я так полагаю, но давайте не будем искушать. Понадобится еще. Китайское, оно и есть китайское… Что, если в январе сделали? Вы же в курсе, что в этом году у китайцев новый год наступил в последний день января? Нет? Ну, зато теперь в курсе. Удачи. До связи.
Пал Палыч похвалил себя за то, что так удачно, не дав собеседнику слово вставить, закруглил раздражавший его диалог. Жаль, но критично настроенный внутренний суфлер нашептал ему в ту же секунду, что неведомый собеседник ушел со связи раньше. Что про китайцев ему было совершенно неинтересно. И что «слово» свое он еще в строку «вставит».
– Хорошо, если слово, – заключил доктор вслух. Чувствовал в этот момент потребность развеять сгустившуюся тревогу и опять уповал на звук собственного голоса.
Уповал, надо сказать, зря. Под занавес запоздало сообразил: датой китайского нового года он козырнул прошлогодней.
«Зачем им этот придурок? Для розыгрыша жестковато, если не сказать жестоко. Дорого, к слову. А обустроено-то все как! Конспирация…»
Пал Палыч был относительно себя честен и не надеялся проникнуть в чужую тайну. Он думал о загадочном предназначении своего пациента без огонька, скорее уж безразлично. Теснил ненужными мыслями другие – тревожные, о собственном туманном будущем.
«Пациент не придурок. Не сметь так отзываться о подопечных, – раздался в голове Пал Палыча незнакомый и строгий голос. – Уважения. Я настоятельно требую уважения и сострадания. Будьте так любезны».
«Что за наваждение?!» – Доктор так резко дернулся в кресле, что драгоценную рюмку спасло от падения на пол лишь чудо.
«Это я тебе “наваждил”, – недобро процедил тот же голос. – И еще “навождю”, если будешь невежлив. Уважать надо болезных. А не то – по жопе колотушкой зарядят!»
«Буду вежлив», – согласно кивнул доктор стене с грамотами и вымпелами. Их он не видел, потому что сильно зажмурился.
По странному стечению обстоятельств Пал Палыч тут же забыл про неведомый голос в своей голове. Пережитое потрясение от короткого диалога тоже пропало бесследно, как и сам диалог. Осталось лишь доброе, щедро сдобренное печалью чувство к недавнему посетителю. «Как там его? Ну да, Иван Васильевич. Дорогой ты мой человек. Как же такого не уважать…»
Вышло, что с глубиной переживаний доктор немного переусердствовал. Или «его переусердствовали». От Пал Палыча всего-то и требовалось, что самое обычное вежливое отношение к страждущему. Что, впрочем, само по себе уже весьма необычно.
Доктор слегка расфокусированным взглядом уставился на янтарь в хрустале, и взгляд собрался как по волшебству. Он недолго рассматривал искрящиеся в электрическом свете грани, не подозревая, какой, опасности подвергал их буквально только что. Откладывать удовольствие не было никакого смысла.
Вульгарно забросив коньяк в сухой рот, Пал Палыч понял, что не только киногерои попадают куда целятся. Прописка среди небожителей примирила его со многим, если не со всем. Такой вечер. И не задался и задался тоже. Жизнь.
После первой рюмки коньяка, показавшегося недостаточно крепким, он решил сегодня же выбросить пистолет в Москву-реку. После пятой рассудил, что по дороге или на набережной его запросто могут сцапать, и решил оставить все как есть, не пороть горячку.
«Притворись мертвым жуком», – вспомнился Пал Палычу старый студенческий совет, нимало не помогавший. «Жука» на семинарах выявляли с завидной регулярностью. Рецепт был, скорее всего, выдуман биологами или зоологами, – решил выявленный в очередной раз «жук». Будущим докторам совет не подходил.
На мысленном пути Пал Палыча встретился анекдот. Показался в тему. Немец тонет посреди озера Балатон, взывает из последних сил: «Хилфэ! Хилфэ!» Венгр с удочкой подсекает поклевку и ворчит в вислые усы: «Надо было на плаванье ходить, а не на немецкий».
«Притворство… мимикрия…» – перебирал доктор слова, способные, как он считал, помочь вспомнить, как же называются люди, посвятившие жизнь букашкам? Он не заметил, как переключился на философскую мысль: «Кругом сплошное притворство».
Как и следовало ожидать, недостаток крепости элитного «Курвуазье» оказался иллюзией, прочтением мягкости. Достойный градус все-таки взял свое. «Энтомологи» – вспомнил Пал Палыч и воспарил духом над обыденностью, а вскоре уснул прямо в кресле. Выучка подвела, ее недостаток.
Я выпил три чашки крепчайшего кофе. Моя кофеварочная машина сконструирована неизвестным автором как оружие. Для истребления человеков. Не удивлюсь, если он стал первой жертвой собственного творения. Затем, как водится, кто-то нашел чертежи, взял кредит и… «старт ап». Где окопались эти мерзавцы? В Сколкове? По причине избыточной крепости продукта, что выдавала машина, я ей пользовался в редких случаях, когда организму действительно требовался натуральный шок. Ну и… – хороший кофе денег стоит. Обычными же днями я перебиваюсь растворимым, который, не сомневаюсь, слегка «подправлен» мамой. Какую бы дешевку я ни покупал, в ней никогда не присутствовал химический привкус. А это против природы растворимого кофе, не говоря уже о бизнесе в целом.
Если бы концентрация напитка определялась звуком, ор бы стоял на весь дом. Итальянский ристретто – ключевая водица. Турки, испытав мой агрегат, успели бы меньше чем за час задумать путч, устроить его, семь раз сменить президентов, и никто бы даже не чухнулся. Обычный мир живет в другом измерении, на других скоростях. Что если в Турции так и случилось? И седьмым в очереди оказался первый из ссаженных? Теперь он обижен на то, что враги отсадили его на край скамейки?
А мне вот ни черта этот жидкий гуталин не помог. Так или иначе, но пятница – вот же подлость! – все равно заканчивается намного раньше, чем мне бы того хотелось. Выходит, что день не мой. Но тогда кто его хозяин? Кто эта несговорчивая дрянь? Извиняюсь, если кого не по чину задел… Или как раз по чину, но не по праву? Почему мир устроен… так, как устроен! В ответ на эту расхожую и бессмысленную риторику мой внутренний голос выдал филиппику насчет весеннего сплина и хандры. Перемежалась она нецензурщиной, на которую сам я – «внешний» голос – никогда бы не отважился.
Порой он, мой внутренний голос, обряжается редким пошляком и хулиганом разговорного жанра. Разносит мир, мой внутренний мир, поистине бесконечным собранием бранных слов. Его словарь в разы богаче собственно моего, доступного близким друзьям и недалеким недругам. Настоящая площадная брань… А задаться вопросом: какая, к бесу, из меня площадь? Площадочка! Тамбур в электричках и тот больше. Кстати, страшно представить заговорившие стены тамбуров. Своей истории у них с гулькин клюв, так что взялись бы делиться услышанным. Малолеток бы точно пришлось в вагонные окна передавать…. Берушами можно было бы на станциях приторговывать. Бизнес мелкий, но прокормить может. Но я не об этом.
Дядя Гоша мог бы худо-бедно моему второму «я» соответствовать. Иногда он так и поступает. Петруха, бывало, встрянет, но домовой по части лексики слабоват и нередко сбивается на термины из медицинской энциклопедии. Думает, простодушный, что заковыристость речи именно в этом. Заучил в свое время. До «Белого солнца пустыни». Зато берет реальными пакостями, делом отыгрывает.
Мне оставлена участь завидовать своему внутреннему голосу и временами из него черпать особенно приглянувшееся. Я, признаться, никогда заимствований не чурался, но старался проявлять взвешенность и разборчивость. Случались и промахи. Если вдуматься, то пару раз я схлопотал по лицу отнюдь не по своей вине. Повелся на что не следовало вестись. С опрометчивости, не могу не заметить, начиналось большинство войн. Иногда на меня накатывает печаль, что глобальное – не мой формат. Но и такая далекая близость к вершителям судеб мира – я об опрометчивости – способна согреть промокшую душу.
Моему бы внутреннему голосу да во власть! Ух, как резво бы зажили… Бог с ним, хотя он скорее от черта… Одна мысль, дарованная мне неоправданно коротким пятничным вечером, вдруг вернулась. Больше того, она показалась мне вполне цивильной. В смысле, готовой пройти горнилом светской цензуры. Сами по себе люди отнюдь не такие гибкие, как их мысли. Отчасти именно странность порождает старых дев. Итак, мысль. Если я божье создание, ниспосланное по Его воле в этот мир, то где мои суточные? Могли бы и отстегнуть… по-божески. А то на тебе: здравствуй беззаботная и безденежная суббота! И мне все еще двадцать девять. По крайней мере до пяти часов вечера. Время московское.
Про суточные Дяде Гоше я сказал. Он минут десять ухохатывался. Не лучший способ ублажить слух. Да и зрелище не для слабонервных. Петруха – на что закаленный домовой, – так и тот возник из барачной банки с размашистым: «Хорош ржать, баб моих перебудите».
Счастливчик. Гарем у него.
Не знаю, даже не догадываюсь, как мама добивается этого, но мой день рождения всегда, всенепременно приходится на субботу. Неважно, в какой год. В любой. Месяц она тоже сама выбирает. По каким-то особым причинам, по наитию или просто спонтанно – душа возжелала праздника. Дату всякий раз объявляет за две недели. Почему? Так заведено. А раз заведено, то и ходить должно. Как часы. Словом, всю жизнь одно и то же. Отсюда, как я понимаю, проблемы со знаком Зодиака. А я Дева. Так мне было объявлено. Безапелляционно. Безальтернативно. Я верю. И, как уже говорилось, я Дева в секрете, тайная. Только все присущие знаку черты сохранить незаметными не удается. Врать не стану – не очень-то и стараюсь. Наверное, скрывать подлинную натуру умеют только шпионы, политики, карьеристы и женщины, выискивающие судьбу. С другой стороны, это уже особенности натуры, так что пример приведен дерьмовый.
С каких-то пор я приноровился-пристроился к пораженческой мысли о возрасте как о единственном, что реально прибывает в моей материальной жизни. Те дни стали для меня началом безотчетных попыток оттянуть приход дня рождения. Прямо сказать, напрягает меня «деньрождённая» суббота. Возможно, это такое искаженное видение справедливости: ни денег не прибывает, ни успехов… Чего празднуем-то?! Листок календаря перевернулся? Главный Счетовод единичку в кондуит дописал? Или галочку поставил в графе «год» – «прожит». Вот и напрягаюсь я из-за этого блуждающего праздника. А вовсе не из-за употребленного накануне, как считает мама. Это тоже традиция. Две традиции: расслабляться накануне и мамино на этот счет мнение. Мама к заведенному мною порядку вечно в яростной оппозиции. Сдается, что питие – немногое, отвоеванное мной.
«Вот почему ты так усердствуешь. Дорожишь. А я-то, наивная, всё голову ломаю».
«Хотел заметить, что ирония тебя не красит, но понял, что как раз наоборот».
«Горжусь твоей наблюдательностью».
«В целом, причин для гордости нет, но если разобрать на детали, то там-сям что-то вроде неплохо вышло, да?»
«Как-то так. И еще обрати внимание, Ванечка, что в жизнь я твою не вмешиваюсь. Пустяки вроде дня рождения не в счет».
«А хочется вмешаться».
«Еще как».
«Терпи».
«Терплю. Ты будто не замечаешь».
«Случается и такое».
«Наглец. Мог бы одарить мать комплиментом».
«Ага. На свой собственный день рождения. Букет будет. Тост будет. Безусловно комплементарный, обещаю. Не торопи события».
«Наглец, но находчив».
«Погордись второй раз».
«Ты, похоже, не в настроении».
«Только не говори, что от тебя скрыто мое отношение к этому удивительному дню».
«И всякий раз в результате ты оказываешься доволен».
«Вот такая я двойственная натура. Но не Близнецы».
«Интересная, кстати, мысль!»
«Что-то переменилось? Незыблемость моего “девичества” под вопросом?»
«Все время, Ванечка, что-то меняется, но что-то и остается. Например, само время. И место. Не опаздывай».
«Не переживай. Буду вовремя».
Мама, как всегда, права: выпивка в реестре ее претензий в мой адрес неловко мнется недооцененной лишь на второй ступени пьедестала. Высшую занимает бестолковость и сумятица в моей жизни в общем и целом. На такой местности затеряться – пара пустяков. Лишь один день в году, нелюбимая мною суббота, отмеряющая физически долготу моей жизни, как следует организована. Потому что организатор – не я. Возможно, его заведомая продуманность и злит. Что ж, это ответ.
«Не самый худший».
«Спасибо, мамочка. На самом деле я очень тебя люблю. И виноват – такой я бываю неблагодарной свиньей».
«Думаешь, наверное, что раз в год?»
«Хотелось бы думать именно так».
«Не льсти себе. Я тебя тоже очень-очень люблю».