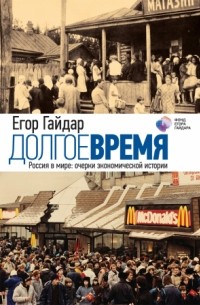3.2. Доминирующая идеология
После краха Римской империи Западная Европа не стала единым государством, но многие аспекты культуры, обмен идеями, институциональные инновации – все это сближало западноевропейские народы, стимулировало интеграционные процессы .
Предпосылки к началу современного экономического роста в Европе только формировались, а новая идеология, порожденная начавшейся социально-экономической и политической трансформацией, уже влияла на умы элиты, на развитие судьбоносных для европейских государств событий.
Формирование в Западной Европе установок на превосходство абсолютной монархии как формы политического устройства, которые отражали историческую реальность – укрепление государства и деградацию феодальной системы, оказало серьезное влияние на развитие России . Характерная для Европы XV–XVII вв. тенденция к концентрации власти в руках королевских династий имела четко очерченную идеологическую основу: священное, богом данное королю право управлять подданными; абсолютная власть монарха – неотъемлемый элемент нормально организованного государства. В Англии эта тенденция сталкивается с противоположной, вырастающей из специфики английского развития, – ростом влияния и расширением прерогатив парламента .
С началом современного экономического роста, подъема европейской экономики, глобализации мирового исторического процесса усиливается влияние доминирующих идеологических установок на государственную политику и национальные стратегии развития. Отчетливо выделяются три периода, во время которых господствовали принципиально разные идеологии. Первый начинается после английской революции XVII в. Конституционная монархия, парламент, подотчетное ему правительство, гарантии прав собственности и личности, развитие рынков, технологические новации, английская система сельского хозяйства – все это вызывает восхищение у современников, стремление повторить в странах континентальной Европы опыт островного государства. Известно влияние британских идей на формирование взглядов Вольтера, французских просветителей XVIII в. В работах Д. Юма и А. Смита либеральная картина мира приобретает стройность и завершенность . Теперь ясно, что необходимо сделать, чтобы добиться благосостояния нации: нужны мир, разумные законы, необременительные налоги, гарантированная от конфискаций собственность, устранение барьеров на пути свободной торговли . При частных различиях эта либеральная картина доминирует в сознании европейской элиты, ориентированной на модернизацию экономики своих стран, вплоть до середины XIX в. Она же оказывает серьезное влияние на формирующуюся систему институтов, стратегию политического развития в США на рубеже XVIII и XIX вв. Влияние идеологической волны, связанной с подъемом Англии и либеральными идеями в Европе, видно на примере экономической политики Екатерины II, пытавшейся проводить в жизнь систему свободной конкуренции и ликвидировать частные монополии . Волна либеральной идеологии охватывает мир.
С середины XIX в. ситуация меняется. На ранних этапах современный экономический рост и индустриализация вызвали социальную дезорганизацию, обнажили вопиющую бедность в городах, особенно заметную на фоне растущего производства. Появились неслыханные прежде бедствия: экономические кризисы и массовая безработица. Либеральная парадигма не позволяла ответить на вопрос, как решать эти проблемы. Политэкономы вели ожесточенный спор с лидерами рабочего движения, требовавшими принять трудовое законодательство, и настаивали на том, что этот путь бесплоден и вреден для самих рабочих .
В процесс современного экономического роста вступают новые страны. По уровню развития они далеки от Англии – доминирующей промышленной державы мира. У них другие традиции. Свобода торговли для Англии выгодна, это бесспорно. Но для национальных элит отнюдь не очевидно, что страны догоняющего развития также нуждаются в свободной торговле .
Уже на ранних этапах развития капитализма стремление сгладить социальные противоречия стимулирует создание систем социальной защиты. Это происходит в первую очередь в Германии. Вопреки предсказаниям политэкономов трудовое законодательство и защита интересов рабочих приводят не к кризису, а к ускоренному экономическому росту. Это подрывает доверие элит к либеральной парадигме, способствует формированию новой идеологической волны, в основе которой лежит представление о необходимости активного участия государства в социально-экономическом развитии, его способности решать порожденные индустриализацией проблемы общества и экономики. Носители новой идеологии неоднородны по составу, среди них политики, экономисты и философы самых разных, порой полярно различающихся взглядов – от К. Маркса до О. Бисмарка . Но их объединяет недоверие к рыночным институтам, убежденность в том, что вмешательство государства полезно и даже необходимо для экономики и жизни общества . К началу революции 1917 года в России влияние этой большой идеологической волны сильно .
В России тех дней представление о том, что все общественные и экономические проблемы страны можно решить, лишь усилив вмешательство государства в экономику, в регулирование и распределение, было всеобщим; его разделяли практически все политические силы .
Великие революции имеют немало сходных черт и механизмов развития . Однако есть и кардинальные отличия. Реакция политических элит, их ответ на революционные вызовы во многом определяются той идеологической волной, которая господствует в мире в период той или иной революции. Во времена Великой французской революции доминировала либеральная волна, в 1917–1922 годах, когда в России после революционных событий шла Гражданская война, – волна дирижистcкая .
Идеологическая волна, поднявшаяся на этапе индустриализации, связавшая нарастание социальных проблем с капитализмом и индустриализацией, предлагающая в качестве панацеи расширение функций государства в экономике вплоть до полной ликвидации рыночных механизмов, оказала непосредственное влияние на формирование политического и экономического режима в России и Китае после двух крупнейших революций XX в. Опыт Великой депрессии и советской индустриализации серьезно повлиял на формирование экономической политики многих стран догоняющего развития в послевоенный период .
Не остались в стороне и страны-лидеры. В Великобритании в 1945 году пришло к власти правительство лейбористов с развернутой программой национализации и завоевания государством командных высот в экономике . В конце 1940‐х годов правоцентристы ФРГ – христианские демократы – принимают программу, где декларируется, что капиталистическая система не соответствует национальным и социальным интересам немцев, поскольку не дает возможности взять под контроль командные высоты в экономике и ввести централизованное планирование .
С конца 70‐х – начала 80‐х годов XX в. ситуация еще раз меняется. Страны – лидеры экономического роста вступили в постиндустриальную стадию развития. Стало очевидным, что в условиях высокоразвитого постиндустриального общества есть предел перераспределению средств с помощью налогов и бюджетов. Финансовые проблемы лидеров обостряются, повышаются темпы инфляции. Негативное влияние избыточного государственного регулирования на экономическое развитие выходит на поверхность.
В социалистических странах темпы роста экономики падают, социалистическая система перестает быть образцом для подражания. В условиях постиндустриального мира и глобальной экономики тезис о позитивном влиянии государственной промышленной политики и тарифной защиты внутреннего рынка на ускорение экономического роста становится все более спорным. Поднимается новая большая идеологическая волна: очередной поворот к либерализму, к ограничению роли государства в экономике, к развитию рыночных механизмов и свободе торговли. И то обстоятельство, что крах социализма в СССР и новая революция в России начала 90‐х годов XX в. пришлись на время подъема этой волны, серьезно повлияло на формирование новой мировой идеологии.
Догоняющим странам приходится прокладывать траектории своего развития не в вакууме, а в условиях динамично меняющегося мира , правила игры в котором и влияющие на эти правила доминирующие идейные установки формируют не они, а лидеры. Для стран с близким уровнем развития, со схожими структурными характеристиками экономики и общества оптимальные решения в области денежной, торговой и промышленной политики не остаются заданными, они в значительной степени зависят от происходящего в мире.
Третье тысячелетие мир встретил в условиях глобальной экономики, свободной торговли и господства неолиберальной идеологии. Сказать, насколько продолжительным будет этот этап в мировом развитии, невозможно. Опыт показал рискованность прогнозов, основанных на экстраполяции доминирующих тенденций в странах-лидерах. Но и сегодня, и в обозримом будущем, по крайней мере до тех пор, пока вектор развития событий в мире значительно не изменится, это остается той точкой отсчета, которую нельзя игнорировать, обсуждая стратегические проблемы стран догоняющего развития, в том числе России.
Jones E. L. The European Miracle. Environments, Economies and Geopolitics in the History of Europe and Asia. Cambridge; London; New York; New Rochelle; Melbourne; Sydney: Cambridge University Press, 1981. P. 5.
См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2‐е изд. T. 19. С. 250, 251.
Яков I еще до вступления на английский трон написал (если быть точным – подписал; истинным автором текстов, по-видимому, был итальянец А. Джентели) два трактата – «Царский дар» и «Истинный закон свободной монархии», в которых явно видно влияние превалирующих на континенте в то время абсолютистских идей. Эти трактаты неплохо продавались в континентальной Европе (Sommerville J. P. Politics and Ideology in England 1603–1640. London; New York: Longman, 1995. P. 46, 47). Положение английского короля казалось ему странным: «Удивляюсь, – говорил он о парламенте испанскому послу Гондомару, – как мои предки допустили такое учреждение». Он не понимал, почему короли Франции, Дании, Испании могут устанавливать налоги самостоятельно, а он – лишь с согласия парламента. Уже в его правление была заложена идейная база конфликта, впоследствии переросшего в английскую революцию XVII в. В ответ на абсолютистские высказывания король в 1611 г. получил «Апологию палаты общин», где его информировали: «Великое заблуждение думать, что привилегии парламента, в частности привилегии общин Англии, принадлежат ему по королевской милости, а не по праву. Мы получили эту привилегию в наследство от наших предков…» (Косминский Е. А., Левицкий Я. А. (ред.) Английская буржуазная революция XVII века. 4.1. М.: Изд-во АН СССР, 1954. С. 84). О влиянии абсолютистских взглядов на организацию государства, на эволюцию политической системы в Англии см. также: Савин А. Н. Лекции по истории Английской революции. М.: Крафт+, 2000. С. 10, 19. Никогда точно не доказанная, но популярная в работах, посвященных английской революции, версия, связавшая провал переговоров между Карлом I и Кромвелем по вопросу о возможности и об условиях реставрации с перехваченным Кромвелем письмом короля королеве Генриетте, в котором он заверяет ее в преданности идеалам абсолютизма и обещает, вернувшись к власти, повесить мятежников (Young G. M. Charles I and Cromwell. An Essay. London: Rupert Hart-Davis, 1950). Хантингтон обращает внимание на роль противоречий между абсолютистскими тенденциями, характерными для континентальной Европы, и укоренившимися английскими традициями разделения властей в генезисе английской революции (Huntington S. P. Political Order in Changing Societies. New Haven; London: Yale University Press, 1968. P. 123). О влиянии идеологической волны, связанной с представлением о том, что абсолютная монархия является наиболее совершенной формой правления, на развитие событий в Западной Европе в XVII в. см. также: Hatton R. Louis XIV and Europe. London; Basingstoke: Macmillan, 1976.
«В Европе среди тех представителей высшей знати, которые не пользуются королевским правом, нет никого, кто превосходит английских аристократов общественным влиянием, достоинством, богатством. Их владения вспахиваются свободными руками. Крестьянин, который владеет небольшим участком, берет в наем за деньги их обширные поля. Все обогащаются, но приличествующим образом: крестьянин, как того требует его скромное, но почтенное положение, дворянин, как подобает его достоинству. Между тем растут семьи крестьян, чрезвычайное изобилие числа пахарей, юноши спешат на военную службу» (Вольтер М. Ф. А. Рассуждения на тему, предложенную Экономическим обществом // Русско-французские культурные связи в эпоху Просвещения: Сб. М.: Институт всеобщей истории РАН, 2001. С. 82). То, что этот доклад, представленный на конкурс, объявленный Вольным экономическим обществом в 1766 г., принадлежит Вольтеру (Мари Франсуа Аруэ), никогда не было окончательно доказано. Конкурс (за исключением имени победителя) был анонимным. Сам Вольтер о своем участии в нем не упоминал. Но историки, исходя из очевидного сходства представленного текста с другими сочинениями Вольтера, в настоящее время практически не сомневаются в его авторстве. В. И. Семевский первым из историков установил, что авторство анонимного сочинения, посланного на конкурс под девизом «Si populus deves, Rex deves», принадлежит Вольтеру (см.: Семевский В. И. Крестьянский вопрос при Екатерине II // Отечественные записки. 1879. № 10. Отд. 1. С. 349–400; № 11. Отд. 1. С. 201–260).
О влиянии А. Смита и в целом либеральной идеологической волны в XVIII – первой половине XIX в. на торговую политику в Западной Европе см.: Bairoch Р. Economics & World History. Myths and Paradoxes. P. 17–24.
О влиянии либеральной идеологической волны на развитие событий в Европе см., например: MacFarlane A. David Hume and the Political Economy of Agrarian Civilization // Burrow J. W. (ed.) History of European Ideas. Pergamon. 27 (2001). P. 79.
Влияние английского либерализма на торговую политику в Европе в 1830–1860‐х гг. ощутимо. Пруссия, Бельгия, Голландия, Швейцария, Саксония снижают импортные тарифы. Даже Россия, где они были выше среднеевропейского уровня, идет на их уменьшение.
См.: Милюков П. Очерки по истории русской культуры. 4.1: Население, экономический, государственный и сословный строй. СПб.: Типография И. Н. Скороходова, 1904. С. 84, 85.
См.: Туган-Барановский М. Очерки из новейшей истории политической экономии и социализма. СПб.: Право, 1914.
Идеи о необходимости защиты молодых отраслей промышленности на раннем этапе индустриализации отражены в работах немецкой экономической школы середины XIX в. (List F. Das Nationale System der Politischen Oekonomie. Erster Band. Der Internationale Handel, die Handelspolitik und der Deutsche Zollverein. Stuttgart, 1941).
«…В конце XIX в. практически каждый мыслящий человек разделял убеждение Маркса в том, что капитализм – это общество неизбежных классовых конфликтов, и, в сущности, к 1910 году большинство „мыслящих людей“, во всяком случае в Европе (а также в Японии), склонялись в пользу социализма. Величайший представитель партии консерваторов XIX в. Бенджамин Дизраэли (1804–1881) во многом разделял точку зрения Маркса на капиталистическое общество, так же как и его коллега в континентальной Европе Отто фон Бисмарк…» (Дракер П. Посткапиталистическое общество. Новая постиндустриальная волна на Западе: Антология / Под ред. В. Л. Иноземцева. М.: Academia, 1999. С. 84).
Эта волна веры в благотворное влияние функций государства в экономике и обществе оказывает серьезное воздействие и на позицию Католической церкви. В 1891 г. папа Лев XIII публикует энциклику «Рэрум Новарум», в которой объявляет себя «папой рабочих», утверждает, что на фоне волны индустриализации и технологических достижений необходима защита трудящихся от бесчеловечных условий и более равномерное распределение собственности (см.: 100 лет социального христианского учения. М.: МП «Останкино», 1991. С. 6–24).
О влиянии большой идеологической волны, порожденной современным экономическим ростом и связанной с дирижистскими и социалистическими идеалами, уверенностью во всевластии государства и пользе государственного активизма, на развитие событий в России в начале XX в. см.: Мау В. Реформы и догмы. 1914–1929. М.: Дело, 1993.
«Наши либералы и прогрессисты в своем преобладающем большинстве суть отчасти культурные и государственно-просвещенные социалисты, т. е. выполняют в России – стране, почти лишенной соответствующих элементов в народных массах, функцию умеренных, западноевропейских социалистов, отчасти же – п олусоциалисты, т. е. люди, усматривающие идеал в половине отрицательной программы социализма, но не согласные на полное его осуществление» (Франк С. Л. DE PROFUNDIS // Из глубины: Сб. статей о русской революции. Paris: Ymca-Press, 1967. С. 320–321).
См.: Стародубровская И. В., Мау В. А. Великие революции: От Кромвеля до Путина. М.: Вагриус, 2001.
«Идеи Юма, Вольтера, Смита и Канта создали либеральную традицию XIX в. Идеи Гегеля, Конта, Фейербаха и Маркса создали базу тоталитаризма ХХ в.» (Hayek F. A. The Counter Revolution of Science: Studies on the Abuse of Reason. Glencoe, Ill: The Free Press, 1952. P. 206).
О влиянии доминирующих в мире идеологических убеждений в разумном устройстве общества на рост доли государственных расходов в ВВП в XX в. см.: Tanzi V., Schuknecht L. Public Spending in the 20th Century. A Global Perspective. Cambridge: Cambridge University Press, 2000. P. 1, 2.
Yergin D., Stanislaw J. The Commanding Heights. New York: Touchstone Books, 1998. P. 31. «Ни один упрек не был столь страшным и столь фатальным для перспектив академической карьеры, чем быть обвиненным в „апологии“ капиталистической системы. Даже ученый, решавшийся спорить с доминирующим мнением по конкретным вопросам, вынужден был защитить себя от подобных обвинений, присоединившись к общему осуждению капиталистической системы» (Hayek F. A. Capitalism and the Historians. Chicago: The University of Chicago Press, 1954. P. 23).
В 1947 г. программа ХДС в британской зоне Германии содержала требование национализировать горнодобывающую, сталелитейную и другие крупные отрасли промышленности (Зиберт X. Эффект кобры: Как можно избежать заблуждений в экономической политике / Пер. с нем. П. И. Гребенникова. СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2003. С. 27, 28).
Изменение темпов роста в странах-лидерах влияет на спрос, цены и соответственно на темпы экономического развития во всем мире. Снижение темпов роста в развитых странах на 1 % в год приводит к снижению темпов роста в развивающихся странах на 1–2 % (Easterly W. The Elusive Ouest for Growth. Economists Adventures and Misadventures in the Tropics. Cambridge; Massachusetts; London: The MIT Press, 2000. P. 211).